Наши переводы
Какое значение может иметь «квир»-прочтение Григория Нисского? (И какой в этом смысл?) Как ни странно, это может означать прочтение и понимание Григория в его аскетизме. Ибо аскетизм и странность (квиринг), возможно, сильно пересекаются: оба обозначают практики, основанные на сопротивлении нормативным дискурсам пола и сексуальности. Таким образом, парадоксальное определение Дэвида Гальперина странности как «идентичности без сущности» может также применяться к аскетизму. Как и странность (квиринг), можно сказать, что аскетизм разграничивает «не позитивность, а позиционирование по отношению к нормативу, которая не ограничивается только «монахами и монахинями», так же как странность (квиринг) не ограничивается «лесбиянками и геями» (Halperin 1995: 62)1.
Странный Отец - Григорий Нисский и Подрыв сексуальной идентичности
Virginia Burrus
Перевод из: Queer theology : rethinking the western body / edited by Gerard Loughlin, 2007.
Репутация его аскетизма усложняет для Григория как женатого человека его усвоение платоновских концепций желания. Григорий, таким образом, является квир-аскетом не только потому, что аскетизм и странность могут иногда составлять одно и то же, но также (или тем более), потому что его аскетизм не соответствует предполагаемым ожиданиям нормативности. Во-первых, его анти-семейное учение о «девственности» упорно сопротивляется нормативности, как «стиль жизни», тем самым оставив, прежде всего для самого Григория, значение «брака» в равной степени вопросом «идентичности без сущности». Во-вторых, его понятие сексуальной сублимации уклоняется в строгий дуализм плоти и духа, в то же время он отделяет активные и пассивные эротические интенции от устойчивых иерархий. Христианская «любовь» (агапе), по словам Григория, является результатом не подавления или контроля над желанием, а скорее дисциплинированной интенсификацией желания; простой человек способен не только получить проникающее внутрь Божье Слово и Дух, но и активно желать божественного жениха; и даже Отец и его Сын должны восприниматься (хотя и невероятно) как любящие друг друга в подобном соотношении.
Эротическая теория Григория, запутанно вплетенная в его сотериологическую схему, также употреблена в его реляционной доктрине Бога: действительно, именно в контексте маскулинной формулировки тринитарного богословия, наиболее очевидно всплывает квази-гомоэротизм его ревизионистского платонизма2.
На первый взгляд, наименее «странным» (наиболее условным) аспектом теории сексуальности Григория может показаться его убежденность в том, что единственным надлежащим объектом желания является Бог, который, однако, оказывается вовсе не объектом. Действительно, Григорий подчеркивает, что божественность, будучи одновременно бесконечной и непостижимой, абсолютно исключает объективацию. Таким образом, возвышенность желания заключается в его (теоретически) безграничном развитии, в повторениях, посредством которых оно продлевается и посредством которого не только объект, но и субъект удерживаются в (вечном) ожидании и предвкушении. Однако именно в этот момент кажущейся самой большой разницы - радикальной трансцендентализации эроса - аскетическая теория желания Григория также оказывается странно резонирующей с позициями некоторых радикально настроенных геев и лесбиянок, выступающих «за секс», о чем я кратко расскажу в заключение.
Между тем я оставила напоследок еще один вопрос: какой смысл в квир-прочтении Григория? Суть для меня, безусловно, заключается не в том, чтобы защищать ортодоксальность этого отца, утверждая, что она политически или интеллектуально «правильнее», чем считалось ранее (или, если на то пошло, «необычнее»)3. Суть в том, как говорила Джудит Батлер, чтобы выявить «повторение в языке, который изменили перемены», взяв в качестве поборника теологическую ненавистническую речь - «эй, странный!» - и воспроизведя ее в качестве места полемического «контрразговора», помещенного в текстах Самих отцов Церкви (Батлер, 1997а: 163, 15). Таким образом, мои мотивы в чтении Григория настолько странны, насколько я могу, в первую очередь выразить их терапевтические значения, по отношению к самой теологии. Надо отметить, что «исцеление» от богословского «греха» происходит не сразу или навсегда; и все же, не стоит утешаться поверхностностью. Сильный импульс повторяемости, свойственный конституции ортодоксального богословия как самосохраняющейся «традиции», гарантирует, что ни к лучшему, ни к худшему, ни одно слово не является окончательным в воем значении. Или, как сказал бы сам Григорий: нынешняя попытка выразить логос Отца - всего лишь капля в риторическом ведре4.
Девственность в понимании Григория
В трактате «О девстве», самом раннем из его сохранившихся сочинений,5 Григорий умело демонстрирует свое смирение, представляя себя как человека, которому недостает того, что он, тем не менее, осмеливается хвалить - а именно, девственность. Он выражает сожаление, что его собственное знание о красоте девственности подобно воде, недоступной для доступа испытывающего жажду человека - «тщеславного и бесполезного». «Блаженны те, в чьей власти избирать лучшее и кто не отгородился стеной, вступив в брачную жизнь, подобно нам (о браке Григория Нисского), которые словно бездной, отделены от славы девства, к нему же не может возвратиться никто, кто хотя бы однажды сделал шаг в мирскую жизнь (τω κοινό ... βίω). Поэтому мы только зрители чужих совершенств и свидетели блаженства других»(О Девстве 3) 6. В состоянии недостатка Григорий также испытывает тоску по тому, чего у него нет - того, что является подобием нетленной божественности духовного царства, как он сам определил девственное состояние (О Девстве 1-2). Григорий не обладает девственностью, но он намекает на то, что он восхищается ей, поскольку он способен признать бедность «мирской жизни» и, таким образом, стремиться к чему-то лучшему, к богатству сокрытому в девстенности (О Девстве 3)7.
«Мирская жизнь» метонимически представлена браком в тексте Григория. Его бескомпромиссное осуждение семейной жизни происходит путем каталогизации ежедневных отношений между супругами, родителями и детьми, а также повторяющихся ран скорби, которые обязательно сопровождают любую любовь, имеющую конец. Как показал Мишель Барнс (1996), описание брака Григорием в значительной степени опирается на стоическую традицию, при этом новый акцент делается на парадоксальном соединении радости и грусти, которое вплетено в ткань смертного бытия. «Ибо дотоле они являются людьми, эти смертные и тленные создания, доколе видят гробы тех, от кого родились. С жизнью их, если они хотя бы немного способны размыслить о ней, неразрывно соединена печаль». Страница за страницей Григорий выдерживает зрелище семейных страданий в чрезмерной и все же, казалось бы, недостаточной попытке ответить на свой собственный вызов: «Почему жизнь в браке приводит к скорби?». Обращаясь к описанию мирской жизни как трагедии, он поднимает свой голос на гиперболическом языке плача, принимая роль, приписываемую слугам, которые «которые опустошают брачную опочивальню, как враги» для молодой жены, которая умерла при родах: «и вместо ложа брачного красуется ложе смертное; при этом стенания бесполезные, рук удары напрасные».
Григорий представляет Илию и Иоанна Крестителя как позитивные библейские модели целеустремленности девственной души, которая избежала превратностей брачной жизни. «Они не достигли бы своего величия, если бы позволили себе расслабляться в страстных плотских удовольствиях брака», - отмечает он (О девстве 6). Тема целеустремленности получила дальнейшее развитие через образ текущих потоков воды. Обращаясь явно к потоку творческой потенции ума, он также охватывает в своем значении ручей растекающихся в разные стороны потоков вод, которые вызывают телесные «проблемы» человека. «Мы часто видим, что вода, направленная по водоводу, встретив препятствие и не имея места, куда разлиться, от сильного напора поднимается вверх, и это бывает, несмотря на то что вода по природе имеет свойство стремиться вниз», - замечает Григорий, - «так и ум человеческий, когда воздержание, как тесный водовод, со всех сторон будет сдерживать его, не имея места, куда рассеяться, по самому свойству движения устремится вверх, вожделея высших благ» (О Девстве 7). Если это сравнение говорит о том, что духовное превосходство должно быть достигнуто путем закрытия всех других эротических каналов, прежде всего физических сексуальных. Григорий, тем не менее, дает понять, что он не намерен унижать «брак как институт», и представляет брак как просто достойную альтернативу девственности для тех, кто слишком слаб, чтобы воздерживаться от удобств и удовлетворения семейной жизни. Напротив, он теперь дерзко предлагает, что буквальная девственность не по силам всем христианам: «Тот, у кого настолько слабый характер, что он не может мужественно противостоять импульсу природы, должен лучше держаться подальше от соблазна, а не спуститься в битву, которая выше его силы».
Другой библейский тип предложен им рядом с Илией и Иоанном, поскольку Исаак представлен как привилегированная модель для человека, который способен как посвятить себя «небесным вещам», так и «использовать преимущества брака с трезвостью и умеренностью», чтобы выполнить свой долг (λειτοργια) перед окружающим сообществом. 8 Библейский патриарх имел сношение со своей женой до того момента, когда она родила, как говорит Григорий; его слабость зрения в старости воспринимается как признак того, что он впоследствии закрыл «каналы чувств» и полностью посвятил себя созерцанию невидимого. Здесь Григорий обращается к примеру опытного земледельца, который может временно отвести часть воды для орошения, а затем умело перенаправить ее обратно в поток, тем самым удовлетворяя множественные потребности, не значительно ослабляя поток воды (О Девстве 8). Как нам прочитать эту иллюстрацию в свете ранее предложенного примера «воды, содержащейся в водопроводе, поднимающейся вверх» (О Девстве 7)? Вода, вырывающаяся из одной трубы в потоке, может показаться чрезмерной сильной по сравнению с измененным потоком диверсифицированной ирригационной системы земледельца (эта своеобразная позиция довольно убедительно аргументирована Марком Хартом 1992: 4). Не менее правдоподобно, однако, то, что компромисс второго примера земледельца с плотскими требованиями брака может исказить и даже пародировать исключительный подвиг истинной девственности. Разрешение дилеммы откладывается.
Таким образом, оставив свои определения девственности и брака в двусмысленности, Григорий использует платоновский миф о восхождении души, и библейские повествования о сотворении, чтобы уточнить свою эротическую теорию. В длинном отрывке, который является одним из самых явных платонических влияниях в его трудах, особенно сильно опираясь на Симпозиум9, где Григорий отмечает, что для «восхождения души» материальные красоты будут лишь лестницей, по которой она поднимается на перспективу этой интеллектуальной красоты, или «рукой, ведущей нас к любви к высшей красоте». «Но как может достигнуть таких высот тот, чьи заботы обращены к предметам низким? Как может возлететь на небо не окрыленный небесными крыльями, посредством высокой жизни не приобретший тяготения ввысь, не превыспренний (μετεωρος)?», спрашивает он, добавляя, что «одна есть колесница для вознесения (πορειας) души человеческой на небо: уподобиться видом слетающей голубице»(О Девстве 11). Поднявшись на небеса на крыльях единственного носителя – желания, душа достигает «единения» с «нетленным Божеством», становится чистой, как зеркало, отражая чистоту Божью и формирует свою собственную красоту от прикосновения и взгляда Архетипа всей красоты», поэтому именно «истинное девство, будучи средством, а не целью, и стремление к нетлению ведут к тому, чтобы при помощи их можно было видеть Бога», - заключает Григорий (О Девстве 11).
Переходя от видения Платона о конечной цели к описанию начала в книге Бытия, Григорий отмечает, что человек изначально обладал тем незапятнанным образом Божественного Разума, который являлся предпосылкой для акта любви как подражательная реализации подобия Бога. Разрушительная «страсть» пришла позже, обратив свободную волю к совершению зла. Таким образом, грех вошел с силой и «роковой быстротой» дурной привычки, затемняя зеркало души ржавчиной порчи, смазывая отражающую чистоту первоначального существа слоем грязи, благодаря чему оно приобретало «сходство с чем-то иным». «Теперь удаление порчи эквивалентно возвращению к тому, что знакомо и естественно», - объясняет Григорий. Подъем души Платона, таким образом, описан как возвращение человека к изначальной сотворенной природе. Как и женщина Евангелия от Луки, которая ищет в своем доме потерянную монету, «овдовевшей душе» нужно только обратиться внутрь, чтобы восстановить свою потерянную сущность, то есть найти божественного возлюбленного, по образу которого она отлита (как и на монете есть образ царя). Григорий призывает читателя «стать тем, кем был Первый Человек в тот момент, когда он впервые обрел дыхание», срывая «мертвые шкуры» греха и смерти. Девственный в сексуальных отношениях со своим «помощником», Первый Человек «нашел только в Господе все сладкое» в те благословенные времена, когда брак был объявлен «последним этапом нашего отделения от жизни, которая проходила в Раю». Институционализированный гетероэротизм брака - уступка порыву различий, который привнесен в домостроение любви - остается барьером между человечеством и раем. Таким образом, брак - это «первое, что остается» на пути к будущему блаженству. Спасение в Девственности для тех, кто знает, как любить в духе, будучи чистым подобием Бога, ее цель - полное поглощение всех полов в одном существе (О Девстве 12)10.
Конечно, версия любви во вне-сексуальной девственности, возможно, не может иметь ничего общего с плотским потомством: «дело плотского сочетания есть появление смертных тел, от духовного же союза (κοινωνια), вместо детей, рождается для сочетавшихся жизнь и бессмертие». Отказываясь увековечивать продолжающиеся циклы жизни и смерти, девственное тело становится барьером против смертности, «девственная мать» зачала только «бессмертных детей» Духом. Теперь (с небольшой помощью Павла) ее венчает платоновская концепция философского материнства как свойства человека через библейское представление о плодоносной девственности, изначально принадлежавшей Адаму и восстановленную в Марии. Григорий снова оплакивает «агонию горя», принесенную с браком, горе вдовства, сиротства, смерти детей, признавая при этом его достоинства. Брак, говорит он здесь, похож на меч, «как у меча рукоять бывает гладка, приятна на ощупь и в руке, блестяща и удобна, все же прочее есть железо, орудие смерти, которое страшно увидать и еще страшнее на деле испытать,– нечто подобное этому есть и брак: словно художественно выточенную, красивую рукоять он представляет для чувственного ощущения поверхностную гладкость как приятное наслаждение, но как только эта рукоять окажется в руках прикоснувшегося к ней, она влечет за собой соединенные с ней скорби, и брак становится для людей виновником плача и несчастий». Григорий, однако, предупреждает, чтобы нашим мыслям не задерживаться только на гладкой поверхности рукоятки - чувственных удовольствиях, связанных с этим привлекающим вид мечем, который так восхитительно подходит к контурам держащей его руки. Таким образом, инструмент удовольствия (брачная жизнь) является органом рождения и поэтому заражен насилием смерти, связанной с его употреблением, причиной - в этом чтении - всякой боли, сопровождающей потерю детей, родителей, супругов. Для того, кто избегает раны горя от меча, Бог - самый нежный жених, и девственная душа, которая становится его супругой, зачатая божественным духом, «приносит мудрость и праведность, а также освящение и искупление», дети их никогда не умрут. Жить так девственно - значит предвидеть ангельскую природу, которая снова будет принадлежать человечеству в Раю. «На самом деле жизнь в девственности, по-видимому, является реальным представлением (εΐκών τις) блаженства в грядущем мире», - отмечает Григорий (О Девстве 13).
К этому моменту Григорий совершенно ясно дал понять, что девственность - это не просто воздержание от сексуальных отношений: как психическое состояние, это, безусловно, нечто гораздо большее. Вспоминая Исаака (а также Платона) 11, мы могли бы еще раз задуматься над тем, обязательно ли само воздержание. Особое поэтическое искусство Григория осложняет резкое различие между буквальным и образным языком, как он это делает в своем трактате «О девстве», являющимся настолько трудным для верной интерпретации12 «девственности», поскольку знак плодовитости желания всегда означает нечто большее; ни один читатель не может докопаться до сути; и все же девственность не просто означает что-то другое, как будто искустность интерпретации нуждалась бы в некоем взломе кода.
Библейские образы Григория, как и его метафоры воды, усложняют связь между знаком и смыслом, буквальной и переносной девственностью, физическим и сублимированным желанием. Григорий воспринимает Мириам как «прообраз Марии, Матери Божией», тогда как ее совершенно пустой «бубен» (τυμπανον) «может означать девственность». «Свободный от всякой влаги и совершенно сухой», - как описывает это Григорий, - «издает громкий звук, так и девство, не допуская в этой жизни никакой житейской «влаги», бывает светлым и далеко слывущим... «Если тимпан, который имела в руках Мариам, был мертвым телом, а девство есть умерщвление тела, то этим, очень может быть, указывается на девство пророчицы», - заключает он. Добавив, что «мы можем только догадываться, мы не можем четко доказать, что это так», - продолжает он, обсуждая сильные и слабые стороны различных аргументов из-за молчания, ведь эта женщина, идентифицированна как сестра ее брата, не была названа женой какого-то мужа. К настоящему времени, однако, Григорий, кажется, немного отошел от адекватных аналогий, не связывая акт высыхания Марии, скорее с бесплодием, чем с девственностью. Продолжая приводить примеры Исаии и Павла, чьи самоописания дают привилегию более яркой, но все еще одухотворенной плодовитости, он, наконец, возвращается к Марии-Богоносице, в которой девственность и материнство женского тела совпадают, несмотря на кажущееся противоречие. Учение Павла о том, что каждый человек в некотором смысле «двойственен», состоящий как из внутреннего, так и из внешнего человека, приводит Григория к понятию двойного брака, в котором человек, будучи в браке (мужи и жена) одновременно внутренне пребывает в браке с духовным Женихом. «Может быть, - заключает он, - дерзнувший сказать, что телесное девство содействует и помогает внутреннему и духовному браку, в своем дерзновении не уклонится далеко от истины». Таким образом, для Григория девственная мать становится не столько парадоксальным соединением противоположностей, сколько символом последовательности, легко гармонирующим с версией платоновского мифа о восхождении души, в котором стремление души к единству с прекрасным движется вверх, поскольку девственность постоянно рождает плод в более высокой плодовитости, в своем перенаправлении эротических желаний (О Девстве 19)13.
Следовательно, девственность - это бездонное чрево бесконечности желания, в понимании Григория. Исаак моделирует сбалансированный прогресс восходящего подъема души, на котором каждый этап готовит путь к следующему: страстный порыв молодости уступает спокойному браку в полной зрелости мужского пола (приводящему к единственному акту рождения), а сам брак уступает место более великой божественной любви и к более продолжительному потомству. Сам Исаак заменен, в тексте Григория, не Христом, а Марией. То, что Исаак преследует эту цель последовательно, с фрагментарной благодатью, она достигается с волнующей целостностью, одновременно девственностью и родительством, одним во плоти и духе, конечная цель спасения возвращается к началу творения. Иногда склонный к потоку воды, чувствительный к приятному прикосновению рукояти меча, Григорий тянется к спасительной сухости тимпана: теперь сухой и полый он руководит танцем девственниц, включая и мужчин, кто все же, духовно девственны. Знак «телеологии высыхания жидкости в затвердевшей форме», в тексте Григория моделирует застывание идеализированной мужской субъективности, которая выходит за пределы «механики» жидкостей, в выражении Иригареи (Irigaray 110). И все же, поразительно, «О девстве» не подавляет хлипкую «реальность» приливов и отливов мужского тела, т.е. его сексуальности и жизни в браке, а скорее проецирует желание обнадеживающего постоянства твердой материи на женскую форму, т.е. душу.
Был ли Григорий женат? Разве перед нами здесь не женатый Отец (церкви)? Что ж, Григорий - в конце - пытается сделать из себя честного человека. Установив тщательное сравнение телесных и духовных браков, которые соответствуют «внутреннему» и «внешнему» человеку Павла, он представляет внутреннее или духовное «я» человека, который ухаживает за невестой, которая является Мудростью, под маской доброй жены в Притчах Соломона. Григорий, по-видимому, не очень доволен тем, что остается с этой «прямой» версией божественного союза. Понятно, отмечает он поспешно, что семейная метафора в духовном браке применима как к мужчинам, так и к женщинам; он цитирует заверение Галатам 3.28 о том, что во Христе «нет ни мужчины, ни женщины», добавляя пояснительный фон, что «Христос есть все и во всем». Если Христос может быть всем для всех людей, любой род объекта Желания также пойдет на пользу: возлюбленный одинаково божественен, независимо от того, фигурирует ли он как царица Премудрость или нетленный Жених, заключает Григорий (О девстве 20). Действительно, большую часть времени «внутренний мужчина» Григория, кажется, рад играть роль жены по отношению к «Доброму мужу», для которого он рождает бессмертных детей, защищает свое целомудрие (О Девстве 15), и даже содержит дом (О Девстве 18).
Был ли Григорий женат? Был ли он девственником? Что считается браком, что считается девственностью? Если этот текст настаивает на том, чтобы поставить вопрос о браке, не предлагая девственности в качестве простого ответа, то мне кажется, что одна из его, возможно, непреднамеренных, но не случайных шуток, должна быть принята почти повсеместно в качестве убедительного доказательства того, что Григорий был женатым и девственным одновременно. Относительно протеста Григория о том, что его участие в «мирской жизни» теперь безвозвратно отделяет его «от славной девственности» (О девственности 3), Мишель Обино отмечает: «Нельзя разумно сбрасывать со счетов такое категоричное откровение» (Обино 1966: 66). Мы видели, однако, что раскрывающиеся термины этого трактата последовательно ускользают от конкретных ясностей категоризма. В конце концов, Исаак в одном действии породил не одного, а двух сыновей: возможно, Григорий не женатый Отец, а обманщик Иаков, который поднялся за счет своего брата. Обернутый в обманчиво волосатую кожу, под ней он на самом деле без бороды и гладкий - как рукоять меча - как сестра или девственная мать - как Мария. Возможно, он был женат, может быть, он не был женат: «брак», который расширяется с точки зрения Григория, как духовное измерение желания, преодолевает пропасть сексуальных различий, определяя партнерство с Богом для любого пола. Мобилизуя шаткость андрогинности во имя другой высшей любви, вертикально ориентированные «философские термины» Григория не текут по каналам гендерной множественности, а порождают исключительную - и необычайно грациозную - мужскую субъективность, которая при этом варьируется как мужская и как женская внутренние сущности, «имея потенциал искоренять разницу между полами» (Irigaray 1985b: 74).
Задняя сторона Бога
Читатели «Жизни Моисея» Григория обнаруживают, что его взгляд на биографический предмет представлен не только в оригинальном библейском тексте, автором которого (и предположительно) является Моисей, но и в дополнительных слоях упрощений и теоретического расширения Григория. Описанный, уменьшенный, сублимированный - в конце Моисей показан таким же прекрасным и легким «как нить паутины», окутанный туникой цвета воздуха (Жизнь Моисея 2.19).14 Читатель начинает подозревать, что это не только просьба Моисея увидеть Бога, но и просьба Григория увиденного в человеке, который «был как принят, так и отвергнут» (Фергюсон, 1976: 310): следуя по стопам Моисея, он внезапно обнаруживает себя смотрящим прямо в расщелину непредставимого. Научная тенденция относить этот тонкий текст к категории созерцательного, даже «мистического» образа жизни, не так сложна для понимания15. С одной стороны, в этом труде есть что-то общее; с другой стороны, разворачиваясь плавно, он выходит за пределы окончательности завершения. Для автора Жизни Моисея существует множество кульминаций на бесконечном восхождении на вечно отступающий от взора пик, когда удовлетворение всегда открывается желанию, для чего-то еще лучшего. Проскальзывание в расщелину в скале - это не регресс самодовольного застоя материнского чрева, а скорее превращение бездонной потенции матки в обширное место абсолютного превращения человека16: преследуя Моисея, Григорий стремительно приближается к совершенству, его единственная цель, чтобы эта погоня длилась вечно.
Этот труд открывается под аккомпанемент стучащих копыт скаковых лошадей. Отвечая на просьбу друга, чтобы он дал несколько советов по поводу «совершенной жизни», Григорий игриво представляет себя одним из зрителей, которые кричат ободрение «даже если лошади стремительно скачут». Представляя трактат, который расскажет о важности theoria, или визуальное созерцание, а также mimesis или имитация божественного совершенства, он здесь мягко высмеивает тех зрителей, кто пристально смотрит на возничих и имитирует их жесты, «наклонившись вперед и размахивая в воздухе вытянутыми руками якобы с кнутом», как будто они могут помочь ускорить команды вперед. Шутка, возможно, сама по себе изначально неуместна в платонической идентификации с возницей души, а не с конем страсти17. Более того, он соглашается просто увещевать молодого человека, который уже «легкомысленно прыгает и напрягается постоянно за «награду небесного зова»: подавая голос и команды своему юному другу-вознице (Жизнь Моисея 1.1). На самом деле он задает темп, как «отец», который моделирует послушание сына (Жизнь Моисея 1.2).
К настоящему моменту, плавно скачя, он предупреждает ученика, что этому курсу нет конца: «Единственный предел добродетели - это отсутствие предела. Как тогда человек достигнет искомой границы, когда он не может найти границы?» (Жизнь Моисея 1.8). Радость заключается в процессе. Как отмечает Эверетт Фергюсон (1976: 314), «в этой жизни Григорий заботится не о логической связи, а о прогрессе, не о хронологии, а о последовательности»; главное, чтобы текст, как и стремление к добродетели, продлевался. Или, если позаимствовать слова Рональда Хейне, «каждое [событие] представляет собой еще один шаг вверх, и в этом смысле все одинаково важно для того, чтобы показать, что Моисей никогда не останавливался на пути добродетели» (Heine 1975: 102).
Рождение Моисея - это рождение не мужчины, а, скорее, принципа мужественности, отмеченного «твердостью и неослабностью добродетели» и определяемого постоянным сопротивлением «мучителю», который представляет «женственное в жизни» (Жизнь Моисея2.2). Будучи изменчивыми существами, люди постоянно рождают подобных себе, отмечает Григорий, и пол является вопросом выбора: «мы бываем некоторым образом отцами себя самих, рождая себя такими, какими сами желаем, и по собственному своему произволению уроками добродетели или порока образуя себя в какой желательно нам пол, мужской или женский» (Жизнь Моисея 2.3). «От одного и того же произволения зависит, без сомнения, родить это мужское и доблестное порождение, вскормить его приличными снедями, позаботиться, чтобы безвредно спаслось оно из воды, так как приносящие свои порождения в дар мучителю, обнажив и без присмотра, предают чад речному потоку; разумею же поток жизни, волнуемый непрерывными страстями, отчего впадшее в этот поток погрязает и лишается дыхания под водами» (Жизнь Моисея 2.5-7). Плодотворное христианство - это «естественная» мать, к которой ребенок мужского пола должен вернуться для молочного вскармиливания, в то время как светское образование, «которое всегда страдает муками рождения, но никогда не рожает ничего живого», может служить адекватной, хотя и временной, приемной матерью. (Жизнь Моисея 2.10-12).
Тому, кто родил себя мужчиной, приходит истина, являющаяся Богом, освещающая его душу своим пламенем. Если Христос – пылающее пламя истины, то Дева - это терновый куст, который чудесным образом не поглощается огнем. (Как и везде, Мариология Григория поглощает его Христологию воплощения). Чтобы приблизиться достаточно близко, чтобы увидеть свет, сияющий сквозь чревообразный сосуд внутри куста, человек Моисей снимает покровы из шкур – то есть материальность - с ног своей души. Разутый, он, наконец, осознает разницу между бытием и небытием, познает, что «из всего объемлемого чувством и созерцаемого умом ничто не есть сущее в подлинном смысле, кроме превысшей всего сущности, которая всему причина и от которой все зависит» (Жизнь Моисея 2.19-26).
По словам Григория, одним из первых чудес, произошедших после этой теофании, является «жезл, превращающийся в змею» (Жизнь Моисея 2.26). Однако Григорий уверяет своих читателей, что «превращение жезла (βακτηρία) в змею не должно беспокоить любящих Христа» (Жизнь Моисея 2.31). «Ради нас (Господь) соделывается змеем, чтобы поглощать и истреблять египетских змеев, оживотворяемых волхвами, а по совершении этого снова обращается в жезл» (Жизнь Моисея 2.33-4). По-видимому, связывая философию со змеиным колдовством, он добавляет, что обрезание необходимо, чтобы «отрезать все, что вредно и нечисто» из того что есть в «способностях философии (γονη)» (Жизнь Моисея 2.38-9). Его плотские излишки исчезли, змею снова превратили в гладкий жезл. Признавая, что «мы, вероятно, уже достаточно истолковали жезл (ραβδοζ)» (Жизнь Моисея 2.63), Григорий не может удержаться от разработки своего рассказа о чудесах «этого непобедимого жезла добродетели, который поглощает жезлы магии» (Жизнь Моисея 2.64). Побеждая змеиные силы гипермаскулинности, жезл также очищает человека от трясинистого болота от «жабьей жизни» (Жизнь Моисея 2.77). Однако, при ударе о сухую скалу, которая есть Христос, жезл «растворяет твердость в мягкость воды», так что скала «течет в тех, кто принимает его» (Жизнь Моисея 1.36).
Настойчивость Хейне в том, что все события «имеют одинаковое значение» в этом продолжающемся повествовании, разрушает научную одержимость ее моментами теофании, которые, после влиятельной работы Жана Даниэлю (1954), были призваны поддержать редуктивное и анахроничное прочтение Жизни Григория как описание аккуратного, трехэтапного «мистического» восхождения18. Хейне призывает нас вместо этого следить за непрерывным потоком текста - прислушиваться (как бы) к неустанному топоту копыт лошадей, которые никогда не останавливаются в гонке за совершенством. Интерпретация Хейне убедительна, однако можно признать, что сам Григорий предполагает, что три теофании являются особенными носителями послания вечного прогресса 19, даже если они сами по себе являются завершенными - или даже весьма кульминационными моментами. Обсуждая то, что Моисей увидел на Синае, Григорий явно связывает это видение с более ранним взглядом своего героя на девственный куст: «повествуемое ныне кажется несколько противоположным первому Богоявлению. Тогда Божество видимо было во свете, а теперь — во мраке» (Жизнь Моисея 2.162). Пройдя через период духовного отрочества - всю эту озабоченность брачными отношениями - Моисей достигает более высокого уровня эротического элемента желания. Истинное зрение теперь оказывается отчасти слепым прикосновением, поскольку ум все глубже погружается в «светящуюся тьму», стремясь понять то, что превосходит понимание (Жизнь Моисея 2.163). В этом рассказе о проникновении света, движение восхождения Моисея продолжает повторяться: «как будто он переходил от одной вершины к другой». Поднимаясь за пределы основания горы, он слышит трубоподобный голос Бога затем «он проникает во внутреннее святилище», где можно найти божественность; наконец, он достигает «скинии, не рукотворной» (Жизнь Моисея 2.167) - «предел», который сам по себе быстро расширяется во вместимость всеобъемлющего (Жизнь Моисея 2.177). Если ясность света была преобразована в тайну кромешой тьмы, восхождение на вершину превратилось в погружение в бездонную бездну. При этом сам Моисей также был преобразован: «не брак соорудил Ему Божественную плоть, но сам он делается каменосечцем собственной своей плоти, исписуемой Божественным перстом. Дух Святый снисшел на Деву, и сила Вышнего осенила Ее» (Жизнь Моисея 2.216). Божий палец, написавший на его теле, пропитывающий его своим словом, и Моисей такой же духовный девственник остается после Синая.
Но есть нечто (всегда) большее. По-видимому, не удовлетворенный пределами своего собственного исторического пересказа, Григорий усиливает свою интерпретацию дополнительной теофанией, не упомянутой в первоначальном изложении событий. Взятый из последовательности из предыдущей главы в библейском тексте, этот эпизод преобразован в божественный повтор, структурная чрезмерность которого лишь подчеркивает тот факт, что даже расширение во всеобъемлющую «скинию» не является концом познания Бога. «Превознесенный на такие высоты (Моисей), пламенеет еще вожделением, ненасытимо ищет большего и, что всегда имел во власти, еще больше того жаждет» (Жизнь Моисея 2.230). Если теперь Моисей попросил увидеть Бога «лицом к лицу, как человек говорит со своим другом» (Жизнь Моисея 2.219), Бог одновременно удовлетворил его желание и оставил его в вечном состоянии разочарованного возбуждения. То, что он хочет, превосходит его человеческие возможности. «Но есть, говорит Бог, некое у Мене место, и на месте том камень, а в камне расселина, в которой повелевает пребывать Моисею. Потом налагает Бог руку на устье расселины, проходит мимо, и Моисей видит задняя Повелевавшего и остается в той мысли, что увидел то, о чем просил, и что обетование Божественного гласа неложно» (Жизнь Моисея 2.220). Кажется, читателю, как и Моисею, предлагается как увидеть, так и не увидеть, что описывается в таких сверхъестественных отрывках. «Эти предложения возводят тайну на высоту, так что мое понимание покоится в состоянии тихого понимания чего-то, что не в силах расшифровать. Я в замешательстве, я не понимаю… что происходит. Но если я попытаюсь это представить, то я произвожу быстрый, даже мгновенный жест отмены», - пишет Джеффри Гарфам20. Григорий, со своей стороны, убеждает читателя выполнить именно такую «отмену», объясняя: «Если взирать на это ограничиваясь буквой, то смысл для ищущих его не только останется неясным, но даже и нечистым от превратного о Боге понятия»(Жизнь Моисея 2.221). Тем не менее, продолжая заглядывать за завесу собственного нежелания, Гарфам отмечает: «соединение тайн веры и стонущих, вздымающихся процессов гомосексуального блудодействия настолько гротескно, невозможно, нелепо, что его нельзя допустить». Действительно, это так, как и предсказывал Григорий: «если кто задняя Божия поймет буквально, то последовательно и необходимостью доведен будет до этой нелепости. Ибо у того только, кто представляется в очертании, есть и переднее и заднее, а всякое очертание есть предел тела, так что представляющий Бога в очертании не признает Его свободным от телесного естества» (Жизнь Моисея 2.222). «Таким образом, гомоэротизм служит объяснительной моделью в материальном мире стремления к вере», - теоретизирует Гарфам, - «которая освещается, не оскверняясь, потому что сам метод не буквален, и его функция фактически никогда не понималась буквально» (Harpham 1995: 366)21. Григорий, кажется, предлагает неуловимое согласие: «Все это было бы более уместно в его духовном смысле» (Жизнь Моисея, 2.223).
Возможно, из-за того, что его уверенность в сублимирующей силе теории так сильна, Григорий не пытается отменить импульс самого желания, а лишь переориентировать его - на самом деле, для гонки нет другой лошади! Если у тела есть «стремление падать вниз», он с готовностью признает, что душа не так уж отличается, а просто «движется в противоположном направлении». «Душа, отрешившаяся от земного пристрастия, делается несущейся горе и скорой в этом движении вверх, воспаряя от дольнего в высоту» (Жизнь Моисея 2.224). Она не просто взлетает, она растет: «одна только деятельность, обращенная к добродетели, питает силы трудом, не ослабляя, но увеличивая делом напряжение к нему»(Жизнь Моисея 2.226). Больше не привязанное к плотскому циклу питания и опорожнения (Жизнь Моисея 2.61), стремление души к Божьим волнам становится все больше. Поглощенный бесконечно растущим желанием, он может только расти - как это ни парадоксально, - «посредством твердого стояния». «Я имею в виду под этим, - поясняет Григорий, - что само стояние делается восхождением. Это значит, что, чем в большей мере пребывает кто твердым и непреложным, тем успешнее совершает течение добродетели» (Жизнь Моисея 2.243). Место стояния - скала, повторяет Григорий, а расселина в скале, куда Бог направляет его занять в свою позицию, оказывается небесной скинией (Жизнь Моисея 2.245). Это также место, где проводится забег (Жизнь Моисея 2.246). И так же происходит прогресс обращений: через девственный куст во всеохватывающую скинию тьмы, отсюда через натурализованную топографию пещеры к замаскированной задней стороне самого Сверхъестественного (см. Harpham 1995: 363-4). Лицом к лицу все-таки не лучшая поза для любви: «доброе не в лицо смотрит доброму, но следует за ним», а Моисей - «человек, который научился следовать за Богом» (Жизнь Моисея 2.253- 5).
И все же (как указывает Хейне) история еще не закончена, сколь бы мы ни испытывали искушение отдохнуть с удовлетворительной завершенностью, казалось бы, кульмнационного момента. «Давайте продолжим», - настойчиво призывает Григорий (Жизнь Моисея, 2.264). В последнем эпизоде перед ниспадающим повторением Григорием пути непрерывного совершенствования (Жизнь Моисея 2.305-18) фигурирует личность Финеаса. Здесь, в начале Жизни, Григорий подчеркивает как гендерную структуру эротической сублимации, так и насилие, присущее требуемым отречениям. Захваченные вожделением к иностранным женщинам, израильтяне «сами были ранены женскими стрелами удовольствия», как Григорий говорит об этом своим самым строго морализирующим голосом: «едва только показались перед ними женщины, вместо оружий противопоставили им свои лица, и они немедленно забыли о силе мужества, раздражение их переменилось в желание нравиться» (Жизнь Моисея 2.298). Это был Финеас, который восстановил порядок мужественности. Пронзая совокупляющуюся и смешанную пару одним ударом копья, «он выполнял работу священника, очищая грех кровью» (Жизнь Моисея 2.300). Таким образом, Финеас победил Само Удовольствие, «сластолюбие в скотов преобразило людей». Григорий усилил свое отвращение к позору мужества через это заражение удовольствием от женщин иностранок: «и они не таят преступления, но величают бесчестием страсти, утешаются скверною срама, подобно свиньям, открыто в глазах других валяются в тине нечистоты»(Жизнь Моисея 2.302).
«После всего этого, - продолжает Григорий (Жизнь Моисея 2.313), Моисей - отказавшись от окончательного прибытия в обетованную землю - не столько остановился в своему стремлению к совершенству, сколько прошел за пределы нашего зрения. Это «кончина живая, за которой не следует погребение, не насыпают могильного холма, не оказывается потемнения в очах и нетления в лице» (Жизнь Моисея 2.314). Подражая ему, его последователи будут «при высшем взгляде на сказанное исторически, применяя к собственной жизни, стараться о том, чтобы познанным быть от Бога и сделаться другом Божиим» (Жизнь Моисея 2.320).
Рассматривая это произведение как «позднюю» работу, заманчиво сделать вывод, что Григорий наконец вырос в его мужское достоинство - действительно, как он вырос! Если сухая Мириам была с тимпаном (сухим инструментом) символом девственности, то в этом тексте она лишь кратко выглядит как униженный символ «женской» зависти (Жизнь Моисея 1.62, 2.260), в то время как Моисей уверенно идет сухой по земле (Жизнь Моисея 1.31, 2.311). Больше не удовлетворенный желанием «иметь» или «быть» женской сущностью (душа), Григорий, стоящий рядом с Моисеем на скале Христа, кажется, достиг вершины активного мужества в своем подражательном стремлении к Богу и благодаря ему. Совершенно самодисциплинированный, лошадь его гипермаскулинной страсти больше не требует даже возницы.
И, тем не менее, прийти к моему выводу, в частности, в отношении только этого труда, возможно, было бы ошибкой. Мастер стиля и никогда не устающий от игры мысли, этот динамичный автор всегда заново рождает себя. В другом труде, обычно относящимся к последним годам жизни Григория (Гомилии на Песнь Песней), «он» является невестой в Песни Песней, «постоянно совершенствующаяся и никогда не останавливаясь на каком-либо этапе совершенства». Объект любви невесты сравнивается с «яблоней посреди бесплодного леса», под тень которой она входит. Раненая стрелой Возлюбленного, «сама делается опять стрелою в руках Стрельца, потому что левая рука направляет вершину к горней цели, а правая удерживает стрелу при себе.». Призванная выйти из тени, невеста отдыхает «в расщелине скалы». Наконец, придя к постели, думая достигнуть «более совершенного участия» в своем союзе с божественным Супругом, она обнаруживает, что «точно так же, как созерцал Моисей во тьме», и «совершенное приобщение блага именует "ложем", и "ночью" называет время тьмы, именем же ночи указывает на созерцание невидимого, быв во мраке». В отношении со своим божественным партнером, который изображен рядом как плоды, и тень, и расщелина, невеста превращает потенциальную пустоту взаимной восприимчивости в раскрытое изобилие эроса, которое не знает конца: «(слуги) приготовляли ложе ,чтобы привести невесту в вожделение Божественного и пречистого сожительства с Царем»… «далекая от достижения совершенства, она даже не начала приближаться к Нему» в ее брачную ночь (Гомилия 6 из Песни Песней)22. «Мы неудовлетворены?», она могла бы (он мог) с Иригареей задать риторический вопрос: «Да, если это означает, что мы никогда не закончим, тогда наше удовольствие состоит в том, чтобы двигаться, и двигаться бесконечно»(Irigaray 1985b: 210).
Любовная рана
Кто-то, возможно, подумает, что это слова больного, а не радостного человека, особенно когда она говорит: «Они ударили меня: они меня ранили: они сняли мою верхнюю ризу». Посему, что это снятие верхней ризы есть нечто доброе, чтобы око, освобожденное от покрывала, беспрепятственно устремлялось на желанную красоту. ... Таким образом, она в определенном смысле ранена и избита из-за разочарования от того, что она желает… Посему, если отъятие покрывала есть благо, то благом, без сомнения, будут и удар и язва, служащие к успешному отъятию. Но риза ее горя исчезает, когда она узнает, что истинное удовлетворение ее желания состоит в том, чтобы постоянно продолжать ее поиски и никогда не прекращаться в ее восхождении, видя, что каждое выполнение ее желания постоянно порождает дальнейшее желание Непознаваемого. (Гомилия 12 на Песнь Песней).
Душа - это дистилляция чувств, так что человек воспринимает свою жизнь ... как опыт оргазма, в котором желание приходит только с исполнением, а удовлетворение не отменяет новое желание. Другими словами, полностью активный и ни в коем случае не пассивный или лишенный желания; и по этой причине все в этом желании более эротично. (Milbank 1998: 106)
Конечно, никогда нельзя сказать то, что она хочет сказать, поэтому мы продолжаем писать. Вот почему мы продолжаем заниматься сексом. Роксана… никогда не бывает того великого оргазма, который бы превзошел все остальные оргазмы. Но она продолжает пытаться, хотя она знает, что это невозможно, на самом деле, потому что она знает, что это невозможно… Мазохисты особенно искусны в том, чтобы превратить отсроченное удовлетворение в удовольствие, и даже когда происходит «завершение», динамика заключается не в достижении конечной точки, а в воспроизведении условий, которые гарантируют необходимость бесконечного возвращения. (Л. Харт, 1998)
Фантазируя о человеческой природе, исцеленной от извращенности сексуальных различий, Григорий Нисский восстанавливает утраченный рай секса до брака. Он утверждает, что непроизводительная сексуальность принципиально не совсем платоническая. Дестабилизируя онтологическую иерархию, характеризующуюся активными и пассивными сексуальными ролями, Григорий также осуждает подражательную образность педерастии, в которой любимый «сын» эротически воспроизводится как идеальный образ зрелого, патернализированного любовника. Феминизированная душа, «раненная стрелой любви», у Григория является страстной влюбленной в возлюбленного Божества, играющую «Низ» почти (но не совсем), как ожидал бы Платоник - потому что играла слишком хорошо. Его риторика не только называет но, кроме того, в изобилии выполняет мазохистскую отсрочку удовлетворения, которая фактически выходит за пределы самой темпоральности, разворачиваясь в вечное блаженство безграничной любви 24. Однако Григорий также может рассмотреть трепетную сцену желания с точки зрения «вершины», когда он мчится на коне своей страсти ко Христу вплоть до бездонного края познания (где он видит божественное дно, а вернее бездну!), он, кажется, активный любящий в погоне за бесконечно желанным Сыном, или (чтобы подчеркнуть парадокс) Сын в погоне за Отцом. Таким образом, Григорий выполняет сложную позицию, колеблющуюся между ученичеством и господством. По-видимому, у человека могут быть оба пути, где божественная полнота сочетается с безграничностью человеческого желания. Но, возможно, два «пути» на самом деле не так уж различны. В контексте, в котором якобы активная вершина «сдается», а пассивное дно «контролирует» акт, даже крайняя дифференциация власти и ролей, ритуализированная в рамках современного садомазохизма, производит, как говорит Линда Харт, странный поступок, основанный на отношениях, которые позволяют разделять сходства» (Харт, 1998: 68)25.
Для Григория «не может быть понимания сущностей, поскольку сущность мира - это отражение божественной непостижимости», - отмечает Джон Милбанк; вместо этого существует «бесконечная отдача и отдача снова» (Milbank 1998: 101). Проницательное прочтение Милбанка позволяет нам поместить эротическую теорию Григория, в которой «возможно ... быть одновременно и восприимчивой, и жертвующей» (Milbank 1998: 95) - в контексте разрыва неоплатонизма с иерархической логикой опосредованной онтологии среднего платонизма - в которой можно было быть и восприимчивым, и жертвующим, но точно не в одном и том же случае. Согласно более ранней модели субъективности как самообладания, космологические и политические иерархии были усвоены и имитированы подражающе как разум, действующий на пассивную материю. В более поздние времена, однако, умозрительная внутренность субъекта понималась как продукт непосредственного отражения внешнего существа - изображения, но не воспроизведения. Таким образом, желание больше не подчиняется «страстям», которые должны контролироваться, а отождествляется с актом отражения, «бесконечным дарованием и возвращением снова». Желание, разум и воля по сути едины. «Конечно, все еще существует иерархия источника над зеркалом, но формально говоря, нет предела восприимчивости зеркала, и при этом иерархия не требует повторения в пространстве зеркала; превосходство теперь принадлежит внешнему, трансцендентному другому и больше не является в принципе вопросом самоуправления космоса над собой, что в микрокосмосе отражается в индивидуальной душе, состоящей из разнородных и иерархически упорядоченных аспектов». Григорий, по мнению Милбанка, доводит неоплатонические теории субъективности до логических крайностей, отвергая понятие «любой сосуд, отличный от того, что им получено, тем самым страстно противостоит лучам действительности», так что «зеркало действительно является ничем иным, как видимой поверхностью света само по себе» (Milbank 1998: 108). «Григорий обнаруживает тело и общество как место для такой чистой деятельности», - заключает Милбанк, протестуя против того, что «мало что может быть истолковано как культ слабости у Григория», что резко контрастирует с «некоторой болезненной версией христианина», как гегелианство, экзальтирующий пафос и диалектическая негативность, которые сохранились с девятнадцатого века до конца двадцатого»(Milbank 1998: 109).
Эта заключительная полемика заставляет меня задуматься. Милбанк обнаружил в этом отце что-то, что он считает слишком странным? Интересно.26 Тематизированный парадокс «активной восприимчивости» беспокойно присутствует в его тексте и должен быть риторически обращен в «чистую деятельность» (тем самым устраняя призрак пассивности): «слабость» активно отвергается, чтобы она не распространялась как болезнь. Гегель, по-видимому, воспитанный как мальчик для битья, служит, скорее, для того, чтобы изгнать подобную слабость из Григория. В конце концов, диалектика философа / раба философа, как известно, рискует обнаружить себя маскулинной: настолько, что фигура раба полностью отвергается (сублиминированно) как объект - посредством включения в личность суверенного субъекта – и он становится проблематично «недостойным» выполнять свою необходимую обязанность «узнавать» в себе господина.27 Я буду утверждать, что, если Григорий может рассматриваться как предвидящий и улавливающий эту дилемму, которая является интересом для современных теорий субъективности - как убедительно утверждает Милбанк, - он во многом приходит к ней потому, что, подобно мазохисту (и Гегелю?), остро осознает пределы и при этом открытую возможность для того «как субъект формируется в подчинении» (Butler 1997a: 2) и на то, как эротическое подчинение, как желание к Всевышнему, может «разрушить» оковы самой субъективности28. Битый, раненый, раздетый – таким могу быть я в своем желании. Каппадокийцы предполагают, что нет предела тому, что можно испытать в любви. Григорий Нисский - странный Отец не потому, что он очищен от страсти, а потому, что он чисто страстный, не более (или менее), чем бездонное и бесконечное существо божественного желания.
Признательность
Спасибо Марион Грау, Кэтрин Келлер и Стивену Муру за полезную беседу и критику. Эта глава посвящена памяти Линды Харт.


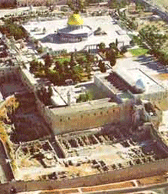


Комментарии
Пока нет комментариев. Будьте первым!