Отредактированная версия доклада «Существует ли разумное решение проблемы зла?» на конференции («феофоруме») «Где Бог, когда я страдаю?», Феодоровский Собор, СПб, 28 декабря 2013 г.
1. Преамбула: в качестве кого я говорю. Моя методология
Я не буду, да и не смог бы говорить как специалист в какой-либо науке, включая философию и богословие. Не буду говорить я и в качестве религиозного мыслителя или даже просто религиозного человека, верующего. Моя позиция — это позиция обычного, «среднего» человека, не столько уже верующего, сколько желающего или расположенного веровать (так, по-моему, настроено большинство людей), но при этом ищущего смысла и понимания всего — міра, жизни, Бога, человека, себя. То, о чём и как я собираюсь говорить, не вписывается полностью ни в классическую философию, ни в богословие как его обычно понимают, ни тем более в какую-то иную отрасль знания. Правда, тема моего сообщения и характер моего дискурса достаточно близки к тематике и методике религиозной философии (или, если угодно, философии религии; сейчас это называют ещё философским богословием), конкретнее — к религиозному экзистенциализму, который, однако, стремится остаться верным норме обычной рациональности, отчетливости, внятности, т.е. прежде всего — логической непротиворечивости.
Свою методологию я называю экзистенциально-логической. Это значит, что я стараюсь логически обоснованно и, разумеется, непротиворечиво, т.е. разумно, рационально осмыслить некоторые базовые экзистенциальные интуиции, или очевидности. Какие это интуиции? Напр., интуиция причинности (обоснованности) и смысла всего происходящего, нравственное и эстетическое чувства, интуиция абсолютного совершенства.
Далее, я предпочитаю оставаться в рамках классической рациональности, приверженной поиску прямых ответов на «проклятые» вопросы, в противовес господствующей ныне постмодернистской манере отводить такие вопросы. Но здесь я не буду заниматься апологией разума и рациональности.[1] Независимо от силы религиозной веры вопрос о разумных основаниях веры должен всегда оставаться актуальным для верующего, если, конечно, он хочет верить разумно, а не слепо. Я вполне отдаю себе отчёт, что собираюсь говорить о чём-то весьма непопулярном в наше время. Это не столько сами проблемы — вопрос о существовании Бога и вопрос о зле,[2] сколько то, что я рассматриваю их с позиции классической рациональности.
Эти проблемы относится к числу фундаментальных, рассмотрение которых невозможно вне целостного взгляда на мір. Поэтому сначала я постараюсь кратко набросать общие рамки, в которые для меня вписывается эта проблематика.
Предварительно — только четыре замечания.
1) У каждого верующего вера в Бога — плод его личных с Ним отношений. Это всегда какая-то очень индивидуальная, неповторимая судьба, личная история, по сути, некая «love story». Часто богоискателя убеждают какие-то детали, события, переживания, которые для других людей могут ничего не означать. Мы об этом говорить не будем. Моя тема — разумность веры, т.е. то, что обще (точнее, должно быть общим) для всех разумных, мыслящих людей, убежденных, что есть одна, и только одна истина (реальность, бытие) и что человек способен как-то (тем или иным образом, в том или ином смысле, с тем или иным приближением и т.п.) ее познавать.[3]
2) Против самой идеи поиска разумных оснований или, как говорят, «доказательств» бытия Бога возражают так: подобных «доказательств» не существует, а если бы они и были, это обесценило бы чудо веры, которая всегда — свободный, волевой выбор и подвиг. Это возражение верно только для строгих (математических и формально-логических) доказательств, потому что их убедительность носит принудительный характер, что, в свою очередь, обусловлено внешним, физическим характером реальности, к которой они относятся. Но так называемые «доказательства бытия Божия» не таковы: их поиск, осмысление и принятие — или отвержение — требуют свободных, волевых усилий, хотя, конечно, совершенно иных по характеру, чем вера; эти «доказательства», или аргументы, относятся к потусторонней для физического міра реальности. Поэтому такие аргументы не обесценивают подвиг веры, но дополняют его.
3) Определить ключевое понятие разума, которое я здесь имею в виду, конечно же, было бы затруднительно. Это, безусловно, не просто формально-логическая способность; подлинный разум имеет бездонную глубину,[4] хотя в другом смысле он ограничен непостижимым, непознаваемым для него — областью чувственности (в самом широком смысле этого слова). Так понимаемый разум — некая общая для всех людей рациональность, основа для консенсуса, некая норма, «здравый смысл». Важно, что в разум входит нравственное сознание, способность различения добра и зла, особенно «чувство» (сознание) справедливости, а также эстетическое «чутьё».
4) Наконец, второе ключевое понятие моих размышлений: совершенство, идея абсолютного совершенства, или всесовершенства, а также тесно связанная с ней идея актуальной бесконечности. Вынужден повториться, что и здесь я не могу входить в подробное обсуждение того, что такое «совершенство». Скажу только, что эта идея основана на признании (опять же, каком-то как бы «чувствовании», «чутье») качественного, а не только количественного отличия, признании шкалы «лучше — хуже», «выше (высшее) — ниже (низшее)». Здесь, конечно, всё зависит от меры духовного, умственного и нравственного развития человека: что именно каждый считает более качественным, или совершенным, а что — менее, зависит от этой многомерной развитости, некой культуры в самом глубоком смысле этого слова. Надеюсь, что Ваша, Читатель, чуткость к понятиям совершенства и качества близка к моей, что должно обеспечить взаимопонимание.
2. Основной Вопрос: существует ли Бог?
Я считаю, что человек живёт в вопросной ситуации или, скорее, тональности, окраске, на её подоснове или фоне. У человека, поскольку он человек (а не опускается на животный уровень или, напротив, не подымается до сверхчеловеческого, скажем, ангельского уровня или уровня святости), есть основное, фундаментальное стремление или вопрошание.[5] В некотором смысле сам человек и есть это стремление или вопрошание.
По-видимому, это стремление-вопрошание имел в виду Пауль Тиллих под ultimate concern, «ультимативной заботой».[6] Оно затрагивает равным образом и сердечно-эмоциональную сторону нашего существа, и умственно-словесную. И умом, и сердцем мы вопрошаем о чём-то или, скорее, устремляемся к чему-то (а точнее, одновременно и то, и другое) в высшей степени значимому, основному, абсолютному и сверхценному для нас. В эмоциональной сфере это стремление-вопрошание выступает в форме тревоги, недоумения, смятения, ужаса, отчаяния перед угрозой боли и смерти, перед разгулом зла и властью судьбы, из-за собственной вины, из-за бессмыслицы происходящего (Тиллих, Мужество быть). Человек по большей части безмолвно, но всей своей жизнью вопиет к кому-то о смысле своей жизни и смерти, стремится куда-то, за пределы своих наличных условий существования.
Я буду называть это стремление-вопрошание Основным Вопросом. Поскольку в поведении человека «ведущим» (hegemonikon) началом является или, скорее, должен быть ум (что, увы, далеко не всегда бывает), то в Основном Вопросе прежде всего я усматриваю умственное, познавательное, постигающее измерение и уже вслед за ним — чувственно-волевое (стремление, порыв). Конечно, интенсивность Основного Вопроса весьма различна не только у разных людей, но и у одного человека в разное время жизни и в разных обстоятельствах. Пророки, герои веры, творцы культуры — это те, кто были всерьёз захвачены им, кто искали ответа на него больше всего на свете, больше самой жизни, и отвечали (точнее, пытались отвечать) всей своей жизнью и смертью. Большинство средних людей в обычное, будничное время могут почти совсем не ощущать его, т.к. он, как правило, не осознан и не артикулирован, залегает где-то в подоснове души, наподобие фонового звучания, приглушён и подавлен, но подспудно этот огонёк тлеет и в критические минуты жизни вспыхивает (особенно в Grenzsituationen, «пограничных ситуациях», по Карлу Ясперсу).
Основной Вопрос проистекает из контраста между жизнью, к которой мы чувствуем себя призванными, и тем міром, в который мы «заброшены» не по своей воле (Geworfenheit, заброшенность Хайдеггера). Мы чувствуем себя чужими здесь, чувствуем, что истинная жизнь — не та, которую мы ведём, по крайней мере значительную часть своей жизни. Нас влечёт в нашу настоящую отчизну, от которой мы отчуждены и о которой, однако, ничего определённого не знаем. Бывает, это раздвоение, этот диссонанс перестаёт ощущаться, тревога Основного Вопроса исчезает и даже сменяется минутами экстаза и ликования. Это происходит, когда мы переживаем полноту и высшее качество подлинной жизни: испытываем настоящую любовь, захвачены творческим вдохновением, восхищаемся красотой и величием природы, бываем потрясены великими творениями искусства, когда нас посещают глубокие прозрения.
Не только все религии, философии, міровоззрения, но и вся культурная деятельность человека, да, пожалуй, и всякая человеческая деятельность — это попытка ответа на Основной Вопрос, ответа умственного и практического, т.е. попытка найти этот ответ и стремление жить в согласии с этим ответом. Но все ответы вновь и вновь оказываются недостаточными, ограниченными и жалкими перед лицом Основного Вопроса. С ходом истории, с расширением знаний и усложнением технологий, с ростом своего материального и информационного могущества человек всё больше начинает понимать, что ничто в этом міре не удовлетворит его безмерного запроса, не утишит всё нарастающей тревоги, не ответит на самый болезненный и затаённый Вопрос. Пожалуй, одно из самых точных определений человека: это существо, не способное ничем удовлетвориться.
Хотя в словесной форме невозможно адекватно выразить этот Основной Вопрос (т.е. его умственное, постигающе-понимающее измерение), существует немало попыток его сформулировать. Напр., для многих это вопрос о смысле жизни — моей, моих близких, человека вообще, человечества, о смысле истории. Или это три Кантовых вопроса: что я могу знать? что я должен делать? на что я могу надеяться? Или это его же 4-й вопрос: что такое человек? Или это «основной» философский вопрос: что первично — бытие или сознание, идеальное или материальное? Или это поставленный Хайдеггером вопрос о смысле бытия. И т.п.
Для меня же Основной Вопрос — это вопрос о существовании Бога, который вместе с тем — и вопрошание-стремление о Самом Боге и к Самому Богу, тяготение к Его постижению-достижению (здесь особенно удачна гениальная двусмысленность русского слова «постижение»). «Есть Бог или нет?» — поистине главный вопрос не только Достоевского,[7] но и каждого человека.
Надо сразу оговориться, что Бога я понимаю не в собственно религиозном смысле, т.к. в чисто религиозном употреблении это сильно мифологизированное и антропоморфизированное понятие, причём не только в глазах неверующих (для них это просто сказочное существо), но и в представлении верующих, начиная с библейских антропоморфизмов. Понятие или идея Бога для меня — это философско-религиозное понятие и даже ещё шире — всеобъемлюще-жизненно-философское понятие. Конечно, нерелигиозные люди предпочтут говорить не о Боге, а, напр., бытии, сознании, энергии, смысле и т.п. Но я считаю, что все другие термины не отвечают полноте значения базовой экзистенциальной интуиции, стоящей за этим понятием, и потому обедняют полноту семантического спектра этой идеи, т.е. искажают ее смысл. В силу культурно-исторических обстоятельств в европейских языках только слово и понятие «Бог» способно вместить в себе всеобъемлющую, неисчерпаемую гамму смыслов соответствующей базовой интуиции. Именно этот смысловой спектр я и имею в виду, когда говорю об Основном Вопросе как о вопрошании, есть ли Бог. Хотя во многом правы те современные богословы, которые (как Тиллих) предлагали ввести мораторий на слово «Бог» из-за его истёртости, злоупотреблений им, но всё же в конечном счёте у нас, европейцев, нет иного слова, которое могло бы его заменить.[8]
Что я понимаю под Богом? Об этом нам говорит наша базовая интуиция абсолютного совершенства, которую вербализовали на протяжении многих веков и культур весьма различно. Конечно, Бога нельзя «определить», и не только в силу Его единственности (не существует определения там, где невозможно указать род предмета), но и потому прежде всего, что понятие о Нём — наивысшее и самое фундаментальное понятие. Однако Его можно как-то наименовать. В современных терминах я назвал бы Бога Личностным Бытием. Иначе говоря, именование, данное Ему иудейскими богословами, греческими философами, отцами Церкви, схоластами — Сущий, или Бытие (на основе Его самооткровения в Исх. 3:14), — в общем верно, но следует добавить «личностное» для подчеркивания того фундаментального измерения, всё значение которого открылось в Новое время, — измерения личности, что, по глубокому определению Владимира Лосского, означает несводимость того, о ком речь, к своей природе, или сущности, свободу от неё.[9] Вполне удачно обозначение Бога схоластами и вслед за ними Декартом и Лейбницем как Всесовершенного Существа (Ens summe perfectus, Ens perfectissimum, L’Être souverainement parfait, L’Être absolument parfait) или Всесовершенного Духа. (Первое название кажется особенно удачным потому, что абстрактное латинское ens, «сущее», при передаче французским être — «бытие» и «существо», и русским «существо» оживает, сохраняя связь с глаголом «быть».) Впрочем, как уже отмечено, все родовые понятия, в том числе «существо», «дух» и пр., к Богу неприменимы ввиду Его абсолютной уникальности.
Самая существенная для нас Его особенность (черта, характеристика, атрибут — хотя все эти понятия опять же неуместны по отношению к Богу) состоит в том, что Он трансцендентен міру («совершенно иное», totaliter aliter), Первоисток и Начало всего сущего, Творец міра. Иными, более философскими словами Его можно «охарактеризовать» как единую трансцендентную основу (бытие) всего сущего (это следствие понимания Его как Бытия, или Сущего) и личностное средоточие абсолютных совершенств: абсолютного добра, абсолютной свободы, абсолютной красоты, всемогущества, всезнания, премудрости и т.п.; ещё вернее сказать, что Он сама премудрость, благость, добро, красота, любовь и т.п. Вполне уместен по отношению к Нему сам термин Абсолют: в этом латинском слове звучат коннотации независимости, самобытности, свободы, трансцендентности. В том, что Бог — совершенная личность, абсолютно свободная и обладающая разумом, волей и чувством, многие философы усматривают антропоцентризм. На это я бы ответил: верно, однако подлинный антропоцентризм основан на базовой интуиции глубочайшего внутреннего родства человека с Богом. Надо признать, что обычно «личность», «воля», «свобода» и тем более «чувство» философскому Абсолюту (а последнее и христианскому Богу в обычном богословии) не приписываются. Это, на мой взгляд, непоследовательно и потому неверно (я вернусь к этому чуть ниже). Впрочем, это связано в первую очередь с тем, как понимать «волю», «чувство», «личность» и т.п. Но мы не можем в это углубляться.
Важно отметить, что вначале, говоря об обосновании существования Бога, я буду подразумевать именно такое, если угодно, философское и вместе с тем традиционное для христианского богословия догматическое понимание Бога. О соотношении «философского», или «догматического», Бога с Богом откровения, или библейским Богом, мы поговорим позже, когда перейдём к третьему из предложенных мной типов аргументации. Если же мы отступаем от такого образа Бога, т.е. от Бога как всесовершенства — напр., отказываясь считать Его всемогущим (как Николай Бердяев) или всезнающим (как Ричард Суинберн, который думает, что Бог не может предвидеть будущее, т.к. будущего ещё нет), или же отказываясь признавать, что мы вообще хоть что-то можем сказать о Нём, кроме того, напр., что Он абсолютно иной, — то многие нижеизложенные проблемы снимаются. Но тогда мы заблуждаемся, грешим против истины, которую вполне отчетливо схватывает наша базовая интуиция абсолютного совершенства. И я полагаю, что интуитивно человек (думаю, любой человек, но большинство неосознанно) тянется именно к такому, только что обрисованному образу Бога, который философы и богословы лишь эксплицируют, выводя из смутного ощущения к более-менее ясным понятиям.
Итак, Основной Вопрос человека состоит в том, действительно ли есть эта совокупность совершенств, это Всесовершенное Существо, это Личностное Бытие? Или это всего лишь наша иллюзия, мечта, произвольное сочетание случайных или даже иллюзорных представлений о добре и совершенстве? Каждый человек сам ищет и находит, если находит, ответ на этот вопрос, и, как правило, этот поиск и ответ носят опытный, практический характер: обычно это вопрос веры, т.е. особой базовой интуиции, можно сказать, духовного опыта. Если же говорить о чисто разумном, интеллектуальном поиске (а я здесь веду речь только в таком ключе), то полагаю, что здравое размышление способно продемонстрировать: существуют веские основания считать, что Бог не может быть только идеей нашего ума, но и в самом деле, в действительности существует, есть, или, точнее, должен быть. К разговору об этом мы и переходим.
3. Актуальность вопроса о существовании Бога
Существование Бога непосредственно не очевидно. Это означает, что мы не знаем, есть ли Бог (в подлинном смысле слова «знать»), а можем только верить, что Он есть или что Его нет. Тот, кто думает, что бытие Бога очевидно и считает, что он знает, что Бог есть, должен признать неверующих (не только атеистов, но и простых, здравомыслящих агностиков) действительно сумасшедшими, по словам псалмопевца: «Рече безумен в сердце своем: несть Бог», т.е. безумными не в переносном, а в клиническом смысле слова.[10] И хотя, в самом деле, горячо верующему, равно как и убеждённому атеисту, представляется, что здесь всё очевидно и нет никакой проблемы, я полагаю, что и таким людям полезно провести своё убеждение через горнило сомнений и анализа. Почему?
Актуальность проблемы для ищущих и неверующих (агностиков) определяется тем фактом, что Бог (но, подчеркиваю, настоящий Бог, о понятии Которого я сказал выше, а не Его карикатура от поверхностных атеистов и агностиков) — слишком интригующий «объект», чтобы Им совсем не интересоваться. Это так хотя бы потому, что с существованием Бога связано наличие или отсутствие смысла человеческой жизни. Если Бог есть, смысл жизни — и моей, и всех людей — точно есть, хотя часто мы не можем сказать, в чём именно он заключается. Если же Бога нет, то, я полагаю, настоящего смысла ни в чём найти невозможно. Почему? Потому что любой предлагаемый смысл (цель) ограничен, т.е. для своего бытия именно в качестве смысла-цели требует иного, большего и высшего смысла, и т.д. Но если этот ряд обоснований смыслового содержания уходит в бесконечность, то мы не находим смысла. Следовательно, если мы всё-таки уверены в существовании настоящего смысла, то им может быть только Смысл всех смыслов, Цель всех целей, или самоцель, т.е. Бог, предельное совершенство.
Актуальность для верующих состоит не только в том, что аргументы «за» нужны для разговора с агностиками. Нет, вопрос о бытии Бога важен для осмысления веры. Ведь сущность и существование хотя и различны, но, как показывает сам язык (во всех европейских языках, начиная с греческого и латыни), тесно связаны между собой, предполагают друг друга. Часто вопрос, существует ли нечто, неизбежно влечёт за собой необходимость уточнить, о чём, собственно, идёт речь. Так что верующие должны быть благодарны атеистам и агностикам за то, что они ставят вопрос о бытии Бога и тем самым побуждают верующего задуматься: во что же или в кого же я на самом деле верю?
4. Можно ли обосновать, что Бог есть?
Я думаю, что это возможно, если мы правильно ответим на 4 вопроса: 1) к какой сфере познания и жизни относится проблема бытия Бога? 2) о каком Боге идёт речь? А также: что означает в этом контексте 3) «существование»? и 4) «обоснование», или «доказательство»?
(1) Итак, в каком аспекте мы говорим о проблеме бытия Бога? Речь идёт о чисто умственной, более того, классической философской проблеме. Я бы даже сказал, что это основной философский вопрос, ведь, по сути, в нём трактуется соотношение сущности (смысла, идеи) и существования (бытия).[11]
Кажется вполне очевидным, что проблема бытия Бога — не проблема науки как естествознания (science). Атеисты, которые говорят, что Бога нет, потому что до сих пор наука Его не обнаружила (в этом смысле высказывался украинский атеист Евграф Дулуман и, как мне кажется, к этому сводится вся аргументация известного «проповедника атеизма» Ричарда Докинза), не понимают, о чём идет речь. Такие высказывания недалеко ушли от афоризма советского времени, что «Гагарин туда летал и Бога не видал». Естествознание изучает только материальный (чувственный), т.е. телесно воспринимаемый мір, но ничего не может сказать о потусторонней, трансцендентной реальности.
Но, может быть, это скорее проблема искусства? Это интересная возможность, и её надо было бы исследовать. Существуют же «эстетические доказательства» бытия Божия![12] Тем более такую возможность следовало бы проверить относительно других гуманитарных наук: может быть, это всего лишь проблема языка? Мифологии? Истории? Культуры? Психологии? И т.п. Но всё же я думаю, что это проблема в первую очередь «царицы наук» — философии, хотя обосновать это, конечно же, не могу: такое обоснование само лежит в области философии, т.к. для того, чтобы понять, к какой науке относится наша проблема, нужно уже философствовать.
Но вполне резонно спросить: правомерно ли ставить вопрос об умственном обосновании существования чего-либо? Разве существование предмета мы узнаём не из опыта? Безусловно так, но всё же есть вещи, существование которых непосредственно не очевидно, не дано в опыте, но которые, по зрелом размышлении, мы должны мыслить существующими, и даже необходимо существующими. Что это за вещи? Прежде всего, это «я», моё сознание или душа, если угодно. Величайшее философское открытие: cogito ergo sum. Для платоников к таким вещам относятся вечные идеи. Относится ли Бог к такого рода «вещам»? Онтологический аргумент гласит: да, причём Богу это присуще в первую очередь и по преимуществу (об этом ниже).
Вот что важно для устранения самого большого недоразумения в дебатах на эту тему: проблема существования Бога в философском смысле — это не проблема религиозной веры или неверия, тем более — проповеди, а исключительно проблема разумных оснований веры или неверия: что разумнее — верить или не верить в Бога? Философские аргументы за или против никого не переубеждают, не делают атеистов верующими или наоборот и вообще, по-видимому, не оказывают заметного влияния на веру или неверие. По этой-то причине многие, особенно верующие, и считают их бесполезными, но есть немало других (среди верующих и неверующих, а особенно ищущих), которые испытывают настоятельную нужду и видят большой смысл в попытках обдумать эту тему максимально спокойно, бесстрастно, в пределах «одного только разума».
Впрочем, я думаю, что проблема бытия Бога выходит за рамки классической философии и даже классического богословия и относится к трудно определимой, пограничной сфере между философией, богословием и духовной практикой, а ещё точнее, как я уже говорил выше, — ко всей полноте жизни, т.е. это глубоко жизненная, экзистенциальная проблема.
(2) О каком Боге идёт речь? Особая трудность с «определением» Бога состоит в том, что то понятие о Боге, к которому приводит каждый из аргументов в пользу Его существования, определяется самим характером этих аргументов. К этому я вернусь чуть ниже. О понятии Бога я уже сказал выше: я буду говорить о Всесовершенном Существе или Личностном Бытии, т.е. сначала — только о «Боге философов и учёных» (по знаменитому выражению Паскаля), а не о Боге откровения; но затем я выскажу некоторые мысли о соотношении этих двух образов Бога.
(3) Каково значение слова «существовать» во фразах: «Бог существует (или не существует)»? Вполне понятен смысл существования для чувственно (телесно, но в том числе и через приборы как продолжения нашей телесности) воспринимаемых вещей. Его точно и неопровержимо, на мой взгляд, сформулировал епископ Джордж Беркли: «быть значит восприниматься», esse est percipi. Вероятно, это и имел в виду Парменид в своём знаменитом «воспринимать и быть — одно и то же», а Кант в своём тезисе о бытии как чистом «полагании», разъясняя, что полагание — это восприятие, просто повторяет мысль Беркли. Но именно последний разработал эту идею развёрнуто, а именно: о чём-то говорят, что оно существует чувственно (материально, физически), если мы воспринимаем его сейчас или воспринимали раньше посредством телесных органов чувств (и/или приборов), а также в том случае, если думаем — исходя из своего опыта или доверяя опыту других, — что можем его воспринять при наличии таких-то и таких-то условий. Всё то, существование чего выходит за пределы наличного или возможного чувственного опыта, но о чём мы можем мыслить, существует в мысли, мысленным образом, в том числе и такие самопротиворечивые вещи, как круглый квадрат и ничто: в самом деле, мы же мыслим эти понятия, значит, мысленно они существуют. Проблема состоит в том, чтобы определить, какие мысленные (умопостигаемые) вещи существуют «вне нас», «объективно», а какие — только наша выдумка, игра воображения, иллюзия. Скажем, законы физики и математические объекты (числа и фигуры) мы, кажется, вполне можем назвать реально, т. е. «вне нас» существующими (только мысленно, а не чувственно). Вопрос о статусе существования многих мысленных вещей, например, того же круглого квадрата или даже кентавра, требует отдельного исследования. Если идею отправиться на охоту за кентавром в Грецию все найдут глупой, то лох-несское чудище, морского дракона и следы пришельцев в древних цивилизациях до сих пор ищут (и даже находят...). Хотя мы и говорим: «Есть идея», «Дан треугольник», «Существует такое число, что…», но приписать ясный смысл понятию существования таких мысленных вещей — в соотношении с чувственным существованием (что у них общего? в чём различия?) — непросто.
Очевидно, Бог существует (или не существует) не в том смысле, в каком существуют чувственные вещи, но и не в том, как обычно понимают существование мысленных вещей: вряд ли кто-то всерьёз оспорит, что у нас есть идея Бога, спор ведётся о том, соответствует ли этой идее что-то «объективно», «в действительности», «в реальности». Прояснить смысл этой «реальности», этого существования «не только в идее», но и «вне нашего ума» — дело метафизики, от Парменида до Хайдеггера, и мы, конечно же, не можем входить в это здесь. Будем считать, что мы интуитивно схватываем смысл выражения «существование Бога» как существования в особенном смысле этого слова, отличном от его значений в случае материальных и идеальных объектов. Вполне достаточно для нас в этом размышлении под «существованием, бытием» подразумевать не метафизическое, чисто теоретическое понятие, но действительность и действенность. В жизненно-практических терминах можно было бы переформулировать вопрос о существовании Бога так: действует ли Бог? Жив ли Он? Или: является ли Бог не только идеей или понятием, но Богом Живым, т.е. действующим и потому действительным? И как именно Он действует?
(4) Конечно же, «доказательство» во фразе «доказательства бытия Божия» не нужно понимать в смысле строгого доказательства. Прежде всего ясно, что умозаключения в таком «доказательстве» не могут быть дедуктивными — от причины к следствию, т.к. Бог, по общепринятому представлению, является причиной, а Его-то бытие и нужно «доказать».[13]
Следовательно, «доказательства бытия Божия» могут быть только индуктивными умозаключениями — от следствий к причине. Но этот последний вид умозаключений (в отличие от первого, который даёт логически строгий вывод) может приводить только к более или менее вероятным выводам. Поэтому можно говорить только об аргументах в пользу или против существования Бога, причём выводы неизбежно будут носить вероятностный характер. Впрочем, надо уточнить, что онтологический аргумент не относится ни к дедукции, ни к индукции, но образует нечто единственное в своём роде (настоящий «показ», демонстрацию, как я скажу ниже).
Итак, я полагаю, что, учитывая все вышесказанное, можно обосновать существование Бога как Всесовершенного Существа.
5. Как можно обосновать существование Бога?
Часто считается, что все известные в истории философии «доказательства бытия Божия» несостоятельны. Однако мне представляется, что серьёзные и вполне объективные, разумные аргументы в пользу бытия Бога всё же существуют или, во всяком случае, доводы «за» значительно перевешивают доводы «против». Здесь я представлю резюме собственных многолетних размышлений и сделаю беглый обзор (но, конечно же, не разбор!) главных аргументов «за». Что касается аргументов «против», то серьёзный такой аргумент один: существование зла. О нём мы поговорим ниже.
Я бы выделил три аргумента, или, вернее, три типа аргументации «за». Первый исходит из наблюдения над внешним міром и анализирует телесный опыт; второй — из наблюдения над внутренним міром и душевным опытом; третий я условно назвал «от факта откровения», и он носит особый характер. Эти три типа аргументации таковы, что каждый следующий даёт всё более высокое и живое понятие о Боге, но вместе с тем теряет в общедоступности своей убедительности, т.е. круг людей, которых каждый следующий тип аргументации способен убедить, всё более суживается.
I. Метафизический аргумент, как назвал его Фредерик Коплстон в радиодиспуте с Бертраном Расселом 1948 г. о существовании Бога,[14] или, как его еще можно назвать, аргумент от контингентности, состоит в продумывании принципа причинности или закона достаточного основания.[15]
Этот принцип основан на базовой интуиции, что все данные нам в опыте вещи контингентны, т.е. их существование не необходимо, случайно, они могут быть, но могут и не быть. Применяя к таким вещам принцип или закон причинности, мы приходим к заключению, что должна существовать разумная Первопричина, или Первооснова міра, которая является и причиной самой себя (causa sui), которая необходимо (а не контингентно) существует, или же, выражая это метафизически, сущность которой включает существование. (Здесь видна связь с онтологическим аргументом, о котором ниже и который действительно, как считал Кант, лежит в основе этого хода мысли, или же, по крайней мере, оба аргумента тесно связаны и восходят к некоему первичному «пра-аргументу» — самому бытию.) Отсюда два главных классических «доказательства» — «космологическое» (у міра должна быть первопричина) и «телеологическое» (в природе без человека всё устроено разумно и целесообразно). Телеологическое «доказательство» также обязано принципу причинности, т.к. цель — разновидность причины («целевая причина», одна из 4-х причин по Аристотелю).
Этот тип аргументации — древнейший, следы которого можно найти ещё в Библии (Пс. 18:2; Прем. 13:1, 5, 9; Рим. 1:19-20), затем в явном виде в «Филебе» и «Законах» Платона, в «Воспоминаниях о Сократе» Ксенофонта, в «Физике» и «Метафизике» Аристотеля, у стоиков и Цицерона, у отцов и учителей Церкви. Кажется, все «пять путей» (обычно неточно именуемых «доказательствами») Фомы Аквинского являются разновидностями этого хода мысли (только 4-й «путь» — от степеней [совершенства], — похоже, выпадает из этого типа). В наше время он получил неожиданную поддержку со стороны астрофизиков в виде «антропного принципа» в космологии (оформился в 1950-70-е годы): совпадения «больших чисел» — фундаментальных физических констант и параметров — и тонкая подстройка таких параметров под факт наличия жизни и человека как будто с неизбежностью ведут к мысли, что Вселенная эволюционировала так, чтобы в ней мог появиться наблюдатель.[16]
Сила этого аргумента в том, что его очень трудно отрицать: по-настоящему это можно сделать, только отрицая (вместе, напр., с Дэвидом Юмом) принцип причинности, который, разумеется, как априорный принцип, не может быть доказан опытным путем. Но явное большинство людей не склонны сомневаться в этом принципе, т.к. он лежит в основе не только познавательной, но и любой человеческой деятельности.[17] В упомянутом радиодиспуте Рассел пытался ограничить всеобщность причинности, указывая на как будто обнаруженные квантовой физикой беспричинные объекты или события, но вряд ли к этому можно относиться всерьёз. Кант, правда, критиковал космологический и телеологический (или, как он называл его, физико-теологический) аргументы, но, кажется, Гегель показал рассудочность, или чисто формальную логичность, Кантовой критики (его понимания причинности) и вскрыл их подлинную глубину.[18]
Но слабость такой аргументации в том, что, опираясь на опыт известного нам міра, она ограничена этим опытом и не способна дать понятие о Боге как Всесовершенном Существе. Да, наш мір должен иметь некое разумное начало и он мудро устроен, но откуда мы знаем или как можем быть уверены, что это абсолютный разум, абсолютная премудрость?
II. Второй тип аргументации — онтологический — преодолевает недостаток первого и совершает прыжок к понятию Всесовершенного Бога. Он основан на внутреннем созерцании и состоит в усмотрении трёх моментов: (1) древнего закона: в следствии не может быть ничего более, чем в есть причине; (2) качественных характеристик «лучше–хуже», «высшее–низшее», т. е. степеней совершенства (на этом основан 4-й «путь» Фомы Аквинского, но я думаю, что эта идея является только звеном аргументации, а не самостоятельным аргументом); (3) идеи актуальной бесконечности, или абсолютности. Осмысление этих трёх моментов даёт, во-первых, наивысшее из возможных понятий о Боге — идею Всесовершенного Существа. В самом деле, коль скоро мы признаём, что в Творце не может быть меньше положительных качеств, или совершенств (на старом языке — реальностей), чем в творении, и что, следовательно, быть, напр., живым лучше (совершеннее), чем неживым, разумным, чем неразумным, более нравственным, чем менее нравственным, чувствующим, чем бесчувственным и т.д., и вместе с тем применим к этим качествам идею актуальной бесконечности, мы сразу же получим идею всесовершенного существа. Именно в этом состоит упомянутая выше непоследовательность тех философов, которые не допускают Абсолюту обладать волей, сознанием, свободой и пр. Ибо если я личность, а Абсолют — нет, то я совершеннее Его, если я чувствую (воспринимаю), а Он — нет, я совершеннее Его и т.д.
А во-вторых, как впервые открыл на молитве архиепископ Ансельм Кентерберийский (хотя предвосхищения этой идеи указывают у Плотина и Августина), наличной в нашем уме идее Всесовершенного Существа не может не соответствовать Его действительное бытие, что получило (у Канта) название онтологического аргумента: существовать совершеннее, чем не существовать, следовательно, абсолютно совершенное существо не может не существовать.
Конечно, я не могу здесь входить в обсуждение онтологического аргумента. Спор о нём затрагивает главный нерв метафизики, так что для настоящего его осмысления потребовалась бы разработка онтологии и, по сути, целой философской системы. Достаточно напомнить, что его отвергали такие разные мыслители, как Фома Аквинский, Юм, Кант и Шеллинг, но и защищали такие разные, как Ансельм, Декарт, Лейбниц и Гегель. В наше время над ним размышляли и давали свои варианты его такие исследователи (логики, философы и математики), как Норман Малькольм,[19] Чарлз Хартсхорн, Альвин Плантинга,[20] Курт Гёдель, Александр Койре, Эммануэль Левинас.[21] Лучшее, пожалуй, изложение и, быть может, самое глубокое его осмысление дал Семён Франк в приложении к своему «Предмету знания» и в более поздней статье «Онтологическое доказательство бытия Бога» (то и другое доступно в Интернете).
Я полагаю, что онтологический аргумент при глубоком его понимании имеет максимальную доказательную силу из всех разумных аргументов в пользу бытия Бога. Повторяю: лишь при глубоком его понимании, под каковым я подразумеваю интерпретацию Декарта и С. Л. Франка. Но в той форме, в которой он наиболее известен, а именно в форме, представленной Ансельмом, особенно в 1‑м из двух его изложений (2‑я глава «Прослогиона», в отличие от 2‑го изложения в 3‑й главе), и в которой он обычно подвергается критике, изложение этого аргумента неудачно, и его критику надо признать справедливой.
Говоря максимально кратко, рассуждение Декарта (в 3-й и 5-й «Медитациях о первой философии») гласит, что наша идея Бога как бесконечной субстанции не может иметь иного происхождения, кроме как от самого Бога. А мысль Франка состоит в показывании (так что это не «доказательство» в современном смысле слова, а именно латинская demonstratio — «показательство», демонстрация) того, что в идее Абсолюта невозможно не мыслить его существование; или, выражаясь иначе, от идеи Абсолюта нельзя отмыслить бытие. Кто понимает, что такое Абсолют, вместе с тем понимает и необходимость Его бытия.[22] В сущности, это означает, что Абсолют есть само бытие или сверхбытие. О существовании самого бытия спрашивать бессмысленно: оно не существует, но, так сказать, сверхсуществует.
Этот второй вид аргументации даёт высочайшее понятие о Боге, не зависит от созерцания опытно данного нам міра и имеет значительную или даже максимальную философскую глубину. В то время как рассмотренный выше аргумент от контингентности гласит: если что-то существует, значит, существует и бытийная основа, то онтологическому аргументу не нужно этого «если»: даже если бы ничего, кроме моего «я», не существовало, сама идея Абсолюта предполагает Его существование. Вероятно, это потому, что Абсолют, в конечном итоге, и есть само бытие (сверхбытие), как постулировала патристическая и схоластическая традиции: Бог есть Своё бытие, само бытие, или чистое бытие (esse tantum, ipsum esse), чистый акт (actus purus). Возможно, здесь лежит и корень аргумента от контингентности, так как бытие и есть подлинная первооснова и цель всего сущего.
Онтологический аргумент менее убедителен для широких масс, так как оперирует трудными для усвоения понятиями, требует нетривиального мышления и углубления в метафизические тонкости.
Существуют и другие аргументы за бытие Божие, напр., «нравственное доказательство» Канта, аргумент от вечной неудовлетворенности или бесконечной требовательности человека и др., но, по-моему, все они являются следствиями идеи всесовершенства.[23]
Но даже на этой высоте мы чувствуем неудовлетворённость достигнутым. Допустим, что всё сказанное признано, что из этого следует? Только то, что нужно мыслить Бога существующим. Но в самом ли деле Он существует? Здесь оканчивается компетенция чистого разума, мышления. Продумывание онтологического аргумента убеждает нас в существовании Бога, в том, что верить в Него — разумно, а отрицать Его существование — глупо. Но сколько бы мы ни полагали вещь существующей, её реальное существование узнаётся только из опыта. Именно к этому сводятся возражения, прежде всего Канта и Шеллинга, против онтологического аргумента: никоим образом невозможен прыжок от мысли к действительности. В этом состоит истинная сторона этого возражения. И, кстати, именно это убеждение толкнуло Шеллинга на критику всей предшествующей философии как «негативной» и вдохновило на попытку создания совершенно иной философии — «позитивной», которая ориентировалась бы не на априорные идеи, но на веру в Откровение. Утверждение о непроходимой пропасти между мышлением и действительностью верно, но оно относится к человеческому мышлению и внешнему для него бытию. Если же речь о божественном сознании и божественном бытии, то верно убеждение Парменидово-Гегелевской традиции о сущностном тождестве мышления и бытия. Но не будем углубляться в онтологию и метафизику. Я сформулирую вопрос, вытекающий из истинной стороны возражения против онтологического аргумента, на религиозном языке: жив ли Бог, Который должен существовать, в самом ли деле Он действует и как именно действует? Ясно, что, при всей убеждённости в Его существовании, пока Он не откроет Себя Сам, все усилия ума обнаружить Его тщетны.
III. Здесь вступает в силу 3-й тип аргументации: от факта откровения. Если причинный аргумент исходит из наблюдения над внешним, телесным міром, а онтологический — над внутренним, душевным, то этот аргумент апеллирует ко всей полноте человеческого опыта, причём на протяжении всей истории человечества.
Если мы уже пришли к мысли, что Всесовершенное Существо не может не существовать в реальности (точнее, Оно и есть сама реальность, само бытие), то мы ищем окончательного удостоверения в этой истине, обращаясь к опыту человечества. Можно ли найти в міроздании и истории человечества следы самооткровения этого Существа? Разумеется, здесь я могу дать только самый беглый и поверхностный набросок квинтэссенции всего человеческого опыта.
Мы находим следы самооткровения Бога в міроздании — об этом свидетельствуют естественные науки. Находим эти следы также в истории и в культурах всех древних народов. Безусловно, откровение в культуре и истории более совершенно, чем откровение в материальном, внечеловеческом міре. Но, далее, из всех религиозных и мифологических представлений наибольшее приближение к идее Всесовершенного Существа мы находим в библейских книгах.
Здесь мы касаемся важного вопроса о соотношении «Бога философов», о котором, как мы уже отмечали, шла речь до сих пор, с библейским Богом. Эта проблема, в свою очередь, уходит корнями в древнейшую и труднейшую проблему соотношения религиозной веры и философии. Опять же, здесь я могу дать только пунктирный набросок этой проблемы.[24]
Библейский и философский монотеизмы сошлись в Александрии еще до наступления новой эры: для эллинизированного иудея Филона, как позднее и для некоторых философов II-III вв. н.э. (Нумений, Амелий) и большинства отцов Церкви, было очевидно тождество библейского Бога с «Богом философов». Несмотря на постоянно возникавшие тенденции отмежеваться от языческой философии (яркий представитель — Тертуллиан с его резким противопоставлением Афин и Иерусалима), все три монотеистические традиции более тысячи лет в основном придерживались этого отождествления. Настоящее размежевание наметилось в мусульманской мысли (теория двойной истины Ибн-Рушда) и в ранней схоластике (у кардинала Петра Дамиани), резко обозначилось у Лютера и Кальвина, хотя никогда не было по-настоящему свойственно магистральной линии католического богословия, особенно со времён торжества томизма. Но настоящий гром грянул в начальной фразе «Мемориала» (или «Амулета») Паскаля: «Dieu d’Abraham. Dieu d’Isaac. Dieu de Jacob. Non des philosophes et scavans» — «Бог Авраама. Бог Исаака. Бог Иакова. Не философов и ученых». Через 200 лет Кьеркегор будет страстно отстаивать эту мысль против Гегеля, а еще через 100 по этому поводу кардинально разойдутся влиятельные протестантские богословы: Паскаля энергично поддержат Карл Барт и Дитрих Бонхёффер, но решительно оспорит Пауль Тиллих: «Против Паскаля я говорю: Бог Авраама, Исаака и Иакова и Бог философов — один и тот же Бог».[25]
Мы можем приблизиться к решению этой проблемы, если зададимся вопросом: в чём вообще состоит сущность подлинной религиозности? Началом религии нередко полагают желание жить вечно. Часто верующие в ответ на вопрос о цели и смысле их жизни отвечают: спасение. Для многих — пожалуй, для подавляющего большинства — это, наверное, так. Но настоящий исток религиозной веры и, соответственно, смысл религиозной жизни — не в желании вечно жить или «спастись», но в жажде Единого Истинного Бога (Ин. 17:3), Первого и Последнего, Альфы и Омеги (Ис. 44:6, Откр. 1:10). И обращение к Богу, и дальнейшая духовная жизнь коренятся (т.е. должны корениться), как свидетельствуют мистики различных эпох и традиций, в этой единственной всепоглощающей страсти — быть с Богом, прилепиться к Нему, никогда не разлучаться с Ним. Мученик XX века о. Димитрий Клепинин в частном письме прекрасно выразил это на современном языке: «Любовь души человека и Бога есть “роман” — ничего прикладного нет в этой любви».[26] Если корень религиозной веры и жизни не в этом «едином на потребу», если нет «романа» с Богом, если Бог нужен мне для моего (пусть ещё и моих близких или даже всего человечества) благополучия, неважно — материального или духовного, в этой жизни или в той, или, например, для развития культуры, нации и т.п., — такая религиозность является, в сущности, языческой, т.е. неистинной религиозностью. Верующий, чья конечная цель не Бог Сам по Себе, и только Он Сам, но жизнь, блага, знания, народ, государство, культура и т.п., такой верующий, в сущности, — идолопоклонник.
Но первые греческие философы тоже искали нечто Единое и Истинное. Единство и истинность — категории истинной религии не в меньшей степени, чем подлинной философии. Для естественной, стихийной, языческой религиозности ни единство, ни истинность ничего не говорят и, в сущности, не нужны: бог или боги рассматриваются в ней исключительно как средства для жизни. Но подлинный богоискатель ищет Единственного, а не богов, Истинного, а не идолов. То, что впоследствии философы и богословы излагали на метафизическом языке, древние схватывали интуитивно и духовно. И хотя это были отнюдь не только евреи (сама Библия свидетельствует, что Бог открывался неевреям: Мельхиседек, Рагуил-Иофор, Иов и др.), наиболее отчетливо из всей древней литературы этот поиск и ответ на него зафиксирован в библейских книгах. Можно привести немало параллелей между библейским откровением и философскими прозрениями эллинов, предопределившими весь путь западной философии.
В Библии это, напр., представление о начале всего, происхождении всех вещей, о познании добра и зла, о несравненном, совершенном, всепревосходящем единстве Бога, о Его трансцендентности, о мудрости-Софии Бога, о Слове Божием, об имени и именовании, особенно что касается священного Имени «Сущий». У эллинов это поиск архэ — начала и первопричины, «всего» (to pan), «целого» (или «всецелого» — to holon), Единого (hen) или, точнее, Всеединого («единого и всего» — hen kai pan), Истины, первичной сущности (ousia), «того, что само по себе», «сущего как именно сущего» (to on he on), «самого бытия» (auto to einai), «сути бытия» (to ti en einai), Логоса, Природы. Древнему библейскому мудрецу, изрекшему: «начало мудрости — страх Господень» (Прит. 1:7, 9:10), вторит древний философ: начало философии — удивление; вряд ли можно сомневаться, что и этот «страх», и это «удивление» восходят к общему корню — нуминозному трепету-изумлению перед чем-то абсолютно Иным, парадоксальным, трансцендентным, одновременно и ближайшим, и самым дальним.
Вместе с Вячеславом Ивановым я полагаю, что первобытная онто-теология, т.е. идея тождества Бога и бытия или, выражаясь осторожнее, мысль о высшей религиозной значимости идеи бытия содержалась в древнейших религиозных учениях, в особенности у египтян, разумеется, в религиозно-мифологическом облачении, и затем перешла к элеатам, где обрела уже почти полностью философский облик. Но впервые подлинная и вполне осознанная онто-теология выражена в истолковании Богом Моисею значения священного Имени Яхвэ в Исх. 3:14, причём я готов защищать «онто-теологическое» понимание именно еврейского текста, а не только греческого перевода Септуагинтой этого выражения. Онто-теологическая интерпретация Имени Яхвэ и этого места Исхода, а также ряда других знаменательных мест, особенно во второй части Книги Исаии, всегда была очевидна древней иудейской традиции от Филона Александрийского до Маймонида, и, конечно, всей христианской. Углублённое прочтение указанных библейских мест вместе с Иоанновой письменностью (Евангелие, Послания и Апокалипсис) — один из главных для меня аргументов за тождество библейского Бога «философскому».[27]
Но, конечно, проблема остаётся. Для многих мыслителей Нового времени тождество двух образов Абсолюта не только не очевидно, но напротив, кажутся вполне очевидными глубокие различия между ними. И прежде всего это резкий контраст между статичным, неизменным и самодовлеющим бытием в понимании эллинов с динамичным, практическим, экзистенциальным и личностным богословием Библии. Как и почему случилась такая инверсия в истории культуры, это «растождествление» Бога и бытия, и кто прав здесь, древность или современность, — предмет отдельного исследования.[28]
Если же признать очевидное всей древности глубинное тождество философского и библейского монотеизмов и продолжать искать далее следы самооткровения Всесовершенного Бога в Библии, то здесь самой совершенной и абсолютно беспрецедентной представляется фигура Иисуса из Назарета. Личность и жизнь этого человека настолько поразительны и уникальны, что это побуждает нас думать, что в нём Бог не просто дал о Себе знать, но открыл Свой «характер», «нрав», или, выражаясь философски, Свою сущность, как это сформулировал «любимый ученик»: «Бог есть любовь». Эта «безумная любовь» Бога, по выражению Павла Евдокимова, эта вершина Его самооткровения превышает Его идею как Всесовершенного Существа, которую составила себе философская мысль: никакой ум не мог бы помыслить любовь, заставляющую Божьего Сына умирать на кресте в муках богооставленности. Исторически и фактически убедительным является само чудо христианской веры, чудо Церкви, которая возникла почти из ничего в смысле данных исторической науки (колоссальные усилия, потраченные на поиски «исторического Иисуса», почти ни к чему не привели) и покорила — только лишь кротостью и милосердной любовью! — множество народов, правителей, религий и философий, распространилась по всему міру, изменила его облик и продолжает через 20 веков неотразимо пленять человеческие сердца, вдохновлять на подвиги и жертвы, изменять жизни, постоянно обновлять ветшающий мір.
Я полагаю, что непредубежденный, «средний» разум (напомню, что в разум, как я его понимаю, входит нравственное сознание, «чувство» справедливости и также способность эстетической оценки) должен разглядеть в «событии» — личности, деле, судьбе — Иисуса из Назарета и в ранней Церкви величайшее «чудо истории» и признать, что здесь, как ни в чём другом, Бог открывается как Всесовершенное Существо, и даже более совершенное, чем могла бы помыслить человеческая мысль. Поэтому в конечном итоге самый убедительный аргумент в пользу существования Бога и одновременно (что отнюдь не случайно!) самое высокое о Нём понятие дают Иисус и ранняя Церковь.
Я прекрасно понимаю, что по-настоящему убедительно это не для многих. Тем не менее, я считаю, что эта аргументация вполне рациональна и обладает доказательной силой.
Итак, обосновать бытие Бога как Всесовершенного Существа можно по предложенной трёхшаговой схеме.
Можно было бы и иначе классифицировать и перечислить аргументы, но мне лично кажется, что эта трёхшаговая схема не случайна, а отражает некую фундаментальную структуру бытия и мышления. Во всяком случае, два первые аргумента соответствуют двойственности Аристотелевского метафизического вопрошания: о первых причинах и о бытии как таковом, а третий — открытой немецким идеализмом историчности (динамике, процессуальности).[29] Что касается полного понятия о Боге (как Всесовершенном Существе, или философском Абсолюте), то его, собственно, даёт только 2-й шаг, но 1-й необходим для второго как опора, а та добавка к понятию Бога, которую даёт 3-й шаг, оказывается неким избыточным дополнением, сверхполнотой, указывающей на недостаточность чистого разума и выводящей за его пределы.[30]
6. Три вопроса, если Бог есть. Проблема зла
Но теперь, если Бог есть, как бы продолжает или парирует в нас голос Основного Вопроса, возникают другие и гораздо более трудные вопросы. Мне кажется, их можно свести к трём: (1) Почему вообще что-то существует (это основной метафизический вопрос, по Хайдеггеру), т.е., формулируя это на религиозно-философском языке, зачем Бог сотворил мір? (2) Откуда зло? (3) Каков конец всех вещей?
Эти вопросы можно понять как возражения против существования Бога — если тот факт, что мы не можем найти непротиворечивого ответа на них, мы сочтём возражением или даже опровержением бытия Божия. Но такое заключение просто из факта ненахождения удовлетворительного для нас ответа было бы, конечно, слишком поспешным. И я его не делаю из отсутствия ясности с первым вопросом. Но со вторым дело обстоит совершенно иначе. Здесь вступает в силу не умственная трудность, но нравственный протест, не терпящий никаких компромиссов и замазываний, властно требующий: или/или. Именно его я считаю самым серьёзным возражением, хотя он, как мы увидим, является не столько возражением против существования Бога, сколько протестом против Самого Бога. Что касается третьего вопроса, то он вытекает из второго и первого, так что ответ на него тесно связан с ответами на них.
(1). Зачем Бог сотворил мір? Этот вопрос исходит из базовой интуиции причинности, цели или смысла: всё, что существует, имеет причину и цель (смысл) своего существования, иначе говоря, нет ничего беспричинного, безосновательного и бессмысленного, бесцельного. (Заметим, что этот вопрос не правомерно относить к Самому Богу — «Кто сотворил Бога?» или «Откуда взялся Бог?»: если относительно окружающих вещей нам естественно спрашивать об их происхождении в силу базовой интуиции контингентности всего сущего, то Бог — абсолютно иная «природа», относительно которой наша базовая интуиция, напротив, подсказывает, что Бог — вне времени и причинности.) «Творение» здесь означает неведомое, непостижимое появление, возникновение, генезис всего, что не есть Бог, «из ничего», только лишь волей, премудростью, властью и могуществом Бога. «Мір» — это всё сущее. Безусловно, в понятии творения сокрыты серьёзные метафизические проблемы о том, как неизменный Бог мог измениться — стать Творцом или решить сотворить, т.е. вопрос о времени и вечности; что значит «творить» для Бога, т.е. чем отличается Его мышление о міре от действия сотворения; в каком смысле «из ничего» и т.п. Однако все эти отвлечённости сейчас маловажны по сравнению с названным, жизненно важным для нас, людей, вопросом о главной цели или смысле творения.
Единственный ответ, соответствующий первичной интуиции абсолютного совершенства (и подкрепленный в истории мысли ведущими религиозно-философскими учениями): причина и цель творения — Божия благость, или любовь. Бог, Который есть само благо и всесовершенство, а значит, ни в чём не нуждается для Себя, создал всё для иного, чем Он, т.е. для твари, творения, міра, и создал это исключительно из благости, даже, как говорят, из преизбытка благости и любви, дабы приобщить тварь к полноте Своей совершенной жизни. Иногда ещё добавляют, что дарить, благотворить — природное свойство блага, усугубляя тем самым мотив некоторой «вынужденности» творения.
Именно какая-то вынужденность творения (даже если мы не будем добавлять, что в природу блага входит благотворить) логически несостоятельна, т.к. противоречит принципу всесовершенства Бога: получается, что без міра Его благость не проявилась бы, не имела бы объекта своего излияния, и если это сообщает Ему большую полноту, значит, Он нуждается в міре для раскрытия или проявления всей полноты Своей благости. (В корне этой проблемы лежит более общая онтологическая проблема самого факта, или наличия, творения как чего-то иного, чем Бог, что, на первый взгляд, немыслимо.)
Мне кажется, невозможно избежать этой дилеммы: либо мір есть нечто случайное и безразличное для Бога, что на самом деле, всерьёз не имеет для Него значения — но это противоречит Его всесовершенству, т.е. образу Бога как абсолютного Добра, или Любви, — либо следует признать, что мір в каком-то смысле нужен Богу, что также противоречит Его всесовершенству, т.к. всесовершенное существо не может в чём-либо нуждаться. (Мы не обсуждаем допущение творения как игры, забавы, что, конечно, недостойно Бога.) Хотя чисто рационально эта трудность кажется непреодолимой, вместе с тем мы чувствуем, что всё зависит от того, как понимать нужду, потребность. Говорим же мы о возвышенной, благородной нужде, когда любящие нуждаются друг в друге. Такого рода нужда, пожалуй, нисколько не противоречит совершенству, вполне подобает ему. И всё же это — род зависимости, и нелегко понять, как можно её совместить с абсолютной божественной свободой.
Тем не менее сердцем мы вполне понимаем и принимаем (достаточно легко переступив через указанную логическую трудность), что Божия благость и любовь излились вовне и, следовательно, Бог создал мір с такой высокой, благой целью.
Тогда возникает второй вопрос:
(2). Unde malum — откуда зло? Зло я определяю как такое состояние (расположение, настроенность) и/или действие, которое направлено на (либо имеет своим результатом) несправедливое и невосполнимое (невосстановимое, необратимое) разрушение жизни. Это разрушение понимается в широком смысле — и как моральное страдание (подавление-унижение), и как физическое страдание и разрушение людей и других существ, которое никоим образом и ни в каком смысле не должно иметь место, т.е. существование чего абсолютно бессмысленно.
Конечно, в точности мы не можем знать, что нечто абсолютно бессмысленно и, следовательно, ни в каком смысле не должно существовать в очах Божиих. Тем не менее иногда нравственное чувство свидетельствует об этом предельно ясно. (Здесь можно вспомнить утверждение Варлама Шаламова, что опыт лагерей — чисто отрицательный опыт, вспоминаются самоубийства таких узников и летописцев концлагерей, как Примо Леви, Тадеуш Боровский, Жан Амери.) Таким образом, то, что зло действительно существует, мы знаем из опыта, а именно — из категорического, бескомпромиссного, абсолютного возмущения и протеста нравственного чувства.
Наиболее явственным, впечатляющим, ужасным образом зло проявляется в несправедливом, неоправданном, бесцельном и бессмысленном страдании, нравственном и физическом, особенно слабых и беззащитных существ — детей, женщин, стариков (многие современные философы и богословы не преминут добавить: и животных), но существует и множество форм зла, в той или иной мере скрытых от людских глаз — гордыня, беспричинная ненависть-злоба, коварные замыслы, извращенные страсти и т.п. О том, что справедливо, а что нет, а также о том, что, напр., гордыня и злоба — это зло, мы опять же судим по нравственному чувству — одной из наших базовых интуиций.
Зло нельзя отождествлять с болью и страданием. Злом является только страдание несправедливое, незаслуженное, бессмысленное и не ведущее к воспитанию, очищению и совершенствованию. Напротив, всяческие болезни роста и особенно страдания, через которые необходимо пройти для воспитания, взросления, возмужания, и тем более очистительно-искупительные страдания — не только не зло, но и несомненное благо. Их отличие от (если воспользоваться, хотя и не вполне правомерно, славянским словом) «злостраданий», т.е. страданий, которые суть зло, в том, что первые несут временные неприятности, более-менее легко переносимые (понятно, что здесь большая область неопределенности), имеют только положительные следствия и не являются причиной невосстановимых повреждений и, тем более, лишения жизни каких-либо существ.
Я думаю, что на древний вопрос unde malum невозможно дать непротиворечивого, разумного ответа: совершенно очевидно, что зло не может произойти ни от Бога, ни не от Бога, а третьего не дано.
Но и само существование зла необъяснимо хотя бы просто потому, что объяснить — это указать если не на истоки, то во всяком случае — на цель и смысл, а это невозможно уже по данному только что определению зла: абсурдно искать смысл в бессмыслице.[31] Но, кроме того, существование зла логически немыслимо в рамках старой дилеммы, обойти которую невозможно: если есть зло, то Бог либо не благ, либо не всемогущ.[32] Попытки защитить или оправдать Бога перед лицом зла называются теодицеей (богооправданием), и её замысел состоит в том, чтобы показать, что бессмысленного, абсолютно недолжного, т.е. настоящего, подлинного зла нет, а то, что нам кажется злом, на самом деле не таково.
Я не буду рассматривать различные варианты теодицей, но скажу просто, вместе со многими мыслителями, что все теодицеи прежде всего нравственно, но большинство и логически неприемлемы и несостоятельны, если не прямо кощунственны по отношению к невинным страдальцам.[33]
И всё же есть две попытки ответа, которые хотя и оставляют в конечном итоге тайну, могут указывать какие-то направления поиска.
Самым глубоким объяснением зла остаётся понятие свободы (из современных «теодицистов» наиболее известный её защитник и разработчик — «аналитический теист» Альвин Плантинга). Но понятие свободы само таинственно и многозначно, почему и возникают новые противоречия и недоумения:
а) Если свобода — это способность выбора (liberum arbitrium), то непонятно, откуда могло бы появиться зло, ведь изначально его не было и, значит, невозможно было его выбрать. Способно ли свободное тварное существо сотворить зло? Напр., стать гордым и замкнуться в себе? Позавидовать людям или Богу? Захотеть стать на место Бога или Христа? Именно в чём-то таком, в подобном сатанинском творчестве — вся кошмарная загадочность, заманчивые глубины, «интрига» Люцифера. Либо же мы должны обратиться за ответом к чему-то подобному Ungrund’у Якова Бёме, несотворённой свободе Бердяева, мэону Бориса Левита-Броуна (см. его книгу Зло и спасение, СПб: Алетейя, 2010). Все эти догадки, интуиции или прозрения заманчиво глубоки, интересны, увлекательны, но, не допуская, кажется, серьёзного исследования, остаются мистико-поэтическими туманностями, убегающими от попыток рационального прояснения.
б) Если в понятие свободы входит возможность делать зло (а это должно быть так, если зло действительно существует), то опасность падения, очевидно, никогда не исчезнет из тварного міра. (Оставляю в стороне трудную проблему свободы Самого Бога.) На это можно ответить так: те твари (может быть, и ангелы, но осторожнее говорить о людях), которые — при возможности делать («творить»?) зло — свободно и сознательно избирают Бога и остаются верными Ему, вырастают, взрослеют, приходят ко спасению и навсегда утверждаются в Боге, так что для них возможность падения становится такой же абсурдной, как и для Самого Бога (так называемая «Иринеева теодицея», из современных «теодицистов» отстаиваемая более всего Джоном Хиком).
Этот ответ вполне приемлем, но (не считая тайны происхождения зла) возникает вопрос о «цене» такого спасения, т.е. о конечных судьбах мира, человечества и всего творения, в указании на что и состоит вторая попытка решения проблемы зла: быть может, всё объяснится в Эсхатоне? Именно в этом и состоит мой третий вопрос:
(3). Если уж зло проникло в богозданный мір (ещё раз переступим через логическую трудность, на этот раз — невозможность объяснить происхождение и существование зла), то чем же всё это закончится? Здесь возможны два варианта:
1. Одни спасутся, другие погибнут. Традиционно считается, что гибель — это не прекращение бытия (ангелы и люди сотворены бессмертными), но невообразимая «антижизнь», вечные муки. В таком случае внутри нас подымается нравственный протест против вечности мучений и ада, того «гнусного догмата», по выражению Владимира Соловьева, который отвергали не только многие христианские мыслители, но и некоторые отцы Церкви, великие молитвенники и подвижники.
Кроме того, возникает каверзный вопрос, который озвучивает Иоанн Дамаскин (Точное изложение православной веры, кн. 4, гл. 21): зачем сотворены те, о ком Бог знал, что они навеки погибнут? Сам Иоанн даёт такой ответ:
«Если для имеющих получить в будущем, по благости Божией, бытие, послужило бы препятствием к получению бытия то (обстоятельство), что они, по собственному произволению, имеют сделаться злыми, то зло победило бы благость Божию».
Я слышу в этом ответе всего лишь странный формализм: зло ни в коем случае не должно «победить» (что в точности это означает здесь?) Божью благость, даже ценой абсурдного создания кого-то в перспективе вечной гибели.
Другой ответ: те, кто погибнут, созданы ради усовершенствования тех, кто спасутся, так сказать, в качестве «удобрения», поскольку без искушения невозможно закалить добрую волю ко спасению. Но тогда зло и злые люди (и, видимо, злые ангелы) нужны, необходимы для спасения праведников, и тогда не должны ли мы признать обоснованными эти многовековые слухи о праведности Иуды и самого диавола, как и другие подобные гностико-манихейские идеи? Да и как праведники смогут наслаждаться блаженством, зная, что другие люди были созданы, по сути, на вечную муку ради их, праведников, блаженства? И уж никак неприемлема августиновско-кальвиновская доктрина предопределения одних на спасение, других на вечные муки, которая, собственно говоря, — не ответ, а запрет спрашивать о самом главном: почему?
Но даже если гибель понимать как прекращение всяческого существования, переход в небытие, к чему склоняются многие современные богословы, то поставленный вопрос остаётся, хотя и в менее острой форме: получается, что те, о ком Бог предвидел, что они свободно выберут небытие, созданы всё-таки не ради них самих, а ради спасения праведников, которым необходимо наличие зла — чтобы было, чего избегать, и так проявить свою верность и стойкость в добре.
2. Все спасутся (апокатастасис). Против этой концепции чисто разумных и нравственных возражений, кажется, нет. Вопреки распространенному мнению, апокатастасис не отрицает свободу: в радикальной, додуманной до конца теории апокатастасиса все, кто избрали бы зло и должны были бы погибнуть, предвидены как таковые и не сотворены, поэтому все падшие твари хотят спастись и спасутся — рано или поздно, так или иначе (все теории апокатастасиса включают мучения грешников — иначе останется неудовлетворённым чувство справедливости, — но временные). По сути, это вариант самой распространённой теодицеи — представления о том, что зла на самом деле нет. По традиционному богословско-философскому учению, зло — не самобытная реальность, оно не имеет своей сущности, а есть просто отсутствие добра. Оно как бы существует только в момент его совершения тварным существом, которое свободно избрало уклониться от добра.[34] Зло имеет своё место в Промысле Божием: если Бог попускает зло, то это потому, что Он умеет извлечь из него ещё большее добро.[35] Или на другом, более восточном языке: зло — это иллюзия, кошмарный сон, который мы отряхнём от себя, когда наконец проснёмся.
Но против подобных схем возникает мощный экзистенциальный протест: если нет угрозы вечной погибели, исчезает подлинная серьёзность жизни, трагедия Голгофы перестаёт быть трагедией, жертва Христа теряет своё глубочайшее измерение.
Кроме того, остаётся вопрос (также скорее эмоциональный и экзистенциальный, чем «чисто» разумный) о чудовищной интенсивности зла: если все люди, в сущности, «хороши» и все спасутся, зачем этот ужас?
И самое главное: остаётся неотвеченным вызов Ивана Карамазова, который опрокидывает все возможные утешительные картинки, одновременно оказываясь самым ярким выражением-свидетельством абсолютной недолжности, бессмысленности зла: никакая будущая гармония не может зачеркнуть факта невинных страданий, даже одной детской слезинки. Здесь Иван подымается на такую головокружительную нравственную высоту, с которой решительно все теодицеи и апокатастасисы кажутся детскими забавами.[36] Не отвергая бытия Бога поверхностным атеистическим отрицанием (здесь — проницательность Достоевского: зло не отрицает, а скорее подтверждает существование Бога, к чему я вернусь ниже), Иван не приемлет Божий мiр и отказывается от всякого утешения будущей гармонией и всепрощением, даже если все жертвы простят своих палачей и все страдальцы примирятся со своей земной судьбой и возрадуются своей участи, и даже если и он сам собственной персоной там, в будущей гармонии, глядя на всеобщее ликование, всех простит и со всеми примирится. Но именно теперь, пока он здесь, Иван спешит заявить, что отказывается от всякого утешения и радости, ибо раз такое «злострадание» уже было, ему нет и не может быть никакого искупления и примирения:
«И пока я на земле, я спешу взять свои меры. (…) Пока еще время, спешу оградить себя, а потому от высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного только того замученного ребёнка (…). Не хочу гармонии, из-за любви к человечеству не хочу. Я хочу оставаться лучше со страданиями неотомщёнными. Лучше уж я останусь при неотомщённом страдании моём и неутолённом негодовании моём, хотя бы я был и не прав. Да и слишком дорого оценили гармонию, не по карману нашему вовсе столько платить за вход. А потому свой билет на вход спешу возвратить обратно.» (Братья Карамазовы, кн. 5.IV)
Владимир Кантор верно говорит, что «вечности герой писателя противопоставляет неутолённое гармонией сегодня» и что «герой Достоевского уходит в религиозный аутизм».[37]
Павел Флоренский (Столп и утверждение истины, письмо «Геенна») предложил антиномическое решение дилеммы выбора между двумя указанными вариантами эсхатологии: будут погибшие навеки, но будет вместе с тем и апокатастасис: грешники будут спасены, а грех наказан и погибнет навеки. Нечто подобное, насколько я понимаю, хотел сказать Евгений Трубецкой (Смысл жизни, II.IV-VI), когда описывал ад и вечные муки как «увековеченный миг», «забытый мір, т.е. мір, оставленный навсегда за пределами бытия безусловного, божественного», или, по истолкованию мысли Трубецкого священником Георгием Белькиндом, «запечатлённое в вечности всеединого сознания неспасённое состояние».[38] Показательно, что, несмотря на непримиримую критику Евгением Трубецким антиномизма Флоренского как методологии религиозного познания,[39] здесь, в этой безысходной проблеме, оба мыслителя фактически сошлись на антиномизме. Но антиномизм — признание невозможности логически непротиворечивого ответа.
Наконец, все-таки существует или, скорее, может существовать одна приемлемая теодицея, которую можно назвать так лишь весьма условно: так сказать, «я-теодицея» С. Франка (Непостижимое, X.3). По Франку, зло появляется на грани между Богом и не-Богом, и эта грань — я сам: зло возникает во мне, в моём сознании моей вины:
«Вопрос о “происхождении” зла есть вопрос об “ответственности” за него.»
«Во мне одном я с очевидностью узнаю, что вина есть грех, — что она есть непостижимое нарушение, повреждение самого неисповедимого существа бытия.»
«Рациональная и отвлеченная теодицея невозможна; но живая теодицея, достигаемая не мыслью, а жизнью, — возможна во всей своей непостижимости и трансрациональности.»
Таким образом, это — чисто экзистенциальное (не экзистенциально-логическое, как мне хотелось бы) решение, следовательно, не дающее нам ясного и разумного (т.е. всеобщего) ответа, хотя и распахивающее далёкий и захватывающий горизонт. Без сомнения, «решение» Франка родственно ответу, который даёт Достоевский образом старца Зосимы: «воистину всякий пред всеми за всех и за всё виноват», и словам сапожника из жития преп. Антония Великого: «Все спасутся, один я погибну». Но все эти «я-решения» не дают разумного ответа именно из-за их «яйности», т.е. не-всеобщности, точнее, анти-всеобщности, хотя и указывают, быть может, на какие-то новые возможности осмысления нашей проблематики.
Итак, по-настоящему приемлемого решения проблемы зла нет. Вполне очевидно, что если бы удалось прояснить сущность свободы, мы, вероятно, получили бы решение проблемы. Парадоксальная, алогичная, антиномичная сущность свободы — причина невозможности решить проблему зла.
Парадоксальность свободы не была очевидна классической философской и богословской традиции и открыта мыслителями, которых называют экзистенциалистами и их предтечами: ап. Павел, Августин, Паскаль, Лютер, Достоевский, Кьеркегор, Шестов, Бердяев, Сартр, Камю и др. Из классических философов, т.е. тех, кто умели мыслить «изначально», начиная по-настоящему «с начала» и пытаясь осмыслить всё в целостности (если угодно, кто строил «систему»), самая глубокая постановка и проработка вопроса о происхождении зла — в теистической, библейско-богословской перспективе (что само по себе большая редкость у классических философов-несхоластов) и в связи с понятием свободы — принадлежит Шеллингу в Философских исследованиях о сущности человеческой свободы и происхождения зла и в последующих попытках вернуться к этой теме в Философии откровения. Но Шеллингу не удалось завершить свою систему, а упомянутая работа и весь проект «позитивной» философии, или философии мифологии и откровения, кажется, ещё весьма далеки от осмысления всей последующей мыслью.
Эти «проклятые», вероятно, неразрешимые вопросы вновь и вновь возникают, беспокоят, мучают мыслителя, ранят и бередят нравственное сознание. От них не уйти, и сама их настоятельность и неотменимость свидетельствует, насколько это «человеческое, слишком человеческое» дело — переживать их, страдать и продумывать. Быть может, это призывает нас к тому, чтобы каждый раз заново переосмысливать все основания нашего мышления, обновлять и очищать наши сложившиеся представления о бытии, Боге, міре, человеке, не останавливаясь и не страшась перед разверзающейся глубиной и далью. Думается, все три названные вопроса глубинно связаны: «нужда», толкнувшая Бога на создание міра, связана со свободой твари, откуда и появляется зло, и всё это уходит в таинственную перспективу Конца…
Итак, самый лучший ответ на вопрос о зле — признание здесь тайны для нашего ума, нашего незнания и непонимания, апории. Эта апория предшествует всем теодицеям и, по сути, должна признаваться и после их изложения, потому что любая теодицея — не более чем гипотеза, т.е. вероятностная, в лучшем случае внутренне непротиворечивая, правдоподобная схема. В сущности, это старый добрый ответ: пути Господни неисповедимы, поэтому остаётся только верить в благость и справедливость Бога. Это касается и лучшего и наиболее продуманного из классических вариантов — теодицеи Лейбница, изобретателя самого термина «теодицея», который в Предварительном рассуждении… (пар. 36) к своей Теодицее приводит пример суда над добродетельным человеком, на которого падает обвинение:
«Человек может представить столь великие и столь сильные доказательства своей добродетели и святости, что все самые явные доводы, которые могли бы быть приведены против него для обвинения его в каком-либо мнимом преступлении, например в воровстве, в убийстве, следовало бы отвергнуть как клевету некоторых лжесвидетелей или как исключительную игру случая, иногда наводящую подозрение на самых невинных. (…) Но всё это, правильно понятое, будет значить только, что очевидность разума уступает здесь вере, обязательной в отношении к слову и чести этого великого и святого человека, и что он стоит выше других людей — не потому, чтобы для него существовал иной суд или не понимали, что такое правосудие в отношении к нему, но потому, что общие законы справедливости не находят в данном случае того применения, какое они находят в других случаях, или, лучше, потому, что они его оправдывают, не меняясь в отношении к нему, так как эта личность обладает столь удивительными качествами, что в силу здравой логики необходимо верить его слову больше, чем словам многих других людей».
В самом деле, мы можем вспомнить немало сюжетов в литературе и кино, где в силу изощрённого коварства врагов или редчайшего стечения обстоятельств на благородного героя указывают неопровержимые улики, так что все разумные доводы говорят за его виновность, и только сила доверия к нему любящих его людей противостоит справедливому по видимости и по доводам разума, но несправедливому в действительности обвинению. Точно так же и наш «Бог под судом» (К. С. Льюис): хотя мы не находим разумных доводов, по-настоящему удовлетворительных для Его оправдания, но знаем Его как безмерно Милостивого Отца, любящего нас до крестной жертвы Своего Возлюбленного Сына, и потому верим, что Он не виновен во зле. По словам современного богослова Вячеслава Алексеева, «Бог умирает в разуме, чтобы воскреснуть в сердце».[40]
Отсюда и второй ответ — указание на Христа и на путь святости. Это ответ Алёши Ивану и самого Достоевского в кн. 6 «Русский инок» Братьев Карамазовых и вообще большинства христиан. Блез Паскаль: «Иисус будет в агонии до конца міра: нельзя спать в это время» (фр. 553 по Брюнсвику). Николай Бердяев:
«Кроме Бога имманентного, отвлеченного Разума и Добра, Бога философов, и Бога абсолютно трансцендентного, Бога капризного, несправедливого, беспощадного и жестокого, есть еще третий, христианский аспект Бога — Бога Любви, Бога Жертвы, Бога истощающего Себя и исходящего кровью, Бога, ставшего человеком. И только этот аспект Бога может быть принят. Теодицея совсем не есть оправдание Бога перед судом человека, теодицея есть защита Бога от ложного человеческого понимания Бога, против клеветы, возведенной на Бога. Единственная возможная Теодицея есть Голгофа, искупительная Божья жертва, примиряющая Бога и человека. Вот почему между нашей грешной, законнической, посюсторонней жизнью и жизнью потусторонней, райской, Царствием Божиим, лежит жертва, страдание, подвиг, смирение, — путь, которым шел сам Бог, Сын Божий, который смирил Себя и принял зрак раба».[41]
О. Георгий Чистяков: «Кто виноват в боли, я не знаю, но знаю, кто страдает вместе с нами — Иисус».[42] Писательница Наталья Гвелесиани: «Бог в этом міре — такой же страдалец. А почему — этого никто не знает. Почему-то нет другого пути, если даже Бог здесь — пострадавший. Значит, и всем такое предстоит».[43] Современный голландский богослов Антон Хаутепен:
«Бог сам присутствует в вопросе о том, почему существует зло, в апории, которую мы переживаем, в жалобе и обвинении против насилия, в разуме, побеждающем насилие технологиями и размышлениями, диалогом и примирением, милосердием и предоставлением нового шанса».[44]
Возможно, источник всей мучительной противоречивости «проклятых» вопросов один: наша философская идея абсолютного совершенства. Мыслимое нами абсолютное совершенство как бы не терпит ничего рядом с собой, как бы поглощает всё ограниченное: мір, человека, его свободу. Здесь происходит то же, что с невольным искажением Халкидонского догмата в обыденном сознании христиан: хотя формально христиане-халкидониты признают обе природы во Христе — божественную и человеческую, — но фактически мыслят Христа только как Бога, потому что божественная природа, как бесконечно более могущественная, сразу же вытесняет из нашего сознания человеческую, превращая нас в бессознательных монофизитов. Так и с философской идеей совершенства: во Христе Бог явил нам совсем иной образ совершенства, превосходящий философскую идею Абсолюта: Бог во Христе оказывается жертвенным, гонимым, униженным, поруганным и распятым. Быть может, разработка идеи такого совершенства, идущей вразрез с философской идеей совершенства, могла бы привести нас к пониманию действительного (не только лишь философско-догматического!) Бога, а возможно, и того, почему есть зло.
И вот что ещё можно отметить. Как ни странно, нерешаемость проблемы зла оборачивается аргументом в проблеме существования Бога, но аргументом не отрицательным, а положительным. Если нет Всесовершенного Бога, зло (как именно зло в вышеуказанном его понимании) не могло бы возникнуть, так как только Всесовершенный Бог-Любовь может наделить Свои творения свободой, способной творить новую, хотя и страшную реальность — реальность зла. Следовательно, нельзя сказать: если есть зло, Бога нет, потому что с устранением второго исчезает и первое (по пословице, это утверждение «рубит сук, на котором сидит»). Парадоксальным образом острота проблемы зла самим своим наличием свидетельствует в пользу бытия Всесовершенного Бога, как это отметил Николай Бердяев:
«Бог именно потому и есть, что есть зло и страдание в міре, существование зла есть доказательство бытия Божьего. Если бы мір был исключительно добрым и благим, то Бог был бы не нужен, то мір был бы уже богом. Бог есть потому, что есть зло. Это значит, что Бог есть потому, что есть свобода».[45]
Мало того, тайна зла скорее свидетельствует в пользу истинности христианства, чем других религий и міровоззрений: в дуалистических учениях (зороастризм, манихейство, гностицизм, средневековые ереси) нет загадки происхождения зла; в иудаизме и исламе Бог не есть Жертвенная Любовь, это справедливый, но грозный, строгий и требовательный Бог, так что вопросы теодицеи здесь неуместны (впрочем, это относится только к магистральным линиям обеих традиций, а не к их мистическим учениям, таким как каббала, хасидизм и суфизм); в буддизме и индуизме, во-первых, нет Бога-Любви, а во-вторых, нет несправедливых страданий — всё строго регулируется кармой (страдающий всегда сам виноват); о нетеистических представлениях (пантеизме, деизме, материализме и т.п.) и говорить нечего: там нет ни личного Бога, ни настоящего зла.
Итак, легко решить проблему зла, отказавшись от истинного, т.е. всесовершенного Бога: допустить наряду с Ним ещё одно неподвластное Ему начало (материю, бездну…); считать Его не Богом жертвенной любви, а строгим и справедливым Судьёй; объявить Его невсемогущим или невсезнающим; сказать, что Его свобода, справедливость и добро — это совсем не наши свобода, справедливость и добро; заявить, что Бог — по ту сторону добра и зла и т.п. Но цена такого решения слишком высока: мы теряем истинного Бога.
7. Заключение
Таким образом, существуют серьёзные аргументы в пользу существования Бога, если понимать Его как Всесовершенное Существо: 1) от принципа причинности (или закона достаточного основания, или от контингентности міра), 2) онтологический и 3) «от факта откровения» в міроздании, истории и культуре. Из последнего аргумента следует, что к образу «философского Бога» — Всесовершенного Существа — ближе всего (или, скорее, даже превосходит его) библейский образ Бога в лице Иисуса Христа.
Из аргументов «против» самым сильным, на первый взгляд, представляется наличие зла, так как его происхождение и существование, если есть Всесовершенный Бог, не поддаётся разумному объяснению. Однако при более глубоком размышлении оказывается, как это ни парадоксально, что само наличие зла свидетельствует скорее в пользу бытия Всесовершенного Бога. Но при этом мы вынуждены констатировать, что не можем понять Его, т.е. Его действия: почему Он допускает существование зла?
Итак, в итоге разумнее считать, что Бог есть, чем наоборот, т.е. разумнее верить в Бога, чем не верить: без Всесовершенного Бога мы не сможем объяснить контингентность міра и присущие нам (врождённые?) интуиции: «инстинкт причинности» и идею всесовершенства и актуальной бесконечности, а также самые поразительные факты истории и культуры — Иисуса Христа и Его Церковь — и даже наличие зла.
Однако на вопрос о зле я могу ответить только: не знаю, не понимаю, почему есть зло и как оно вообще может быть, но хочу верить, что Бог не виноват; вполне допускаю, что Он и Сам страдает и хочу надеяться, что какими-то немыслимыми путями Он всё же ведёт человека к чему-то лучшему и высшему, чем то, что есть.
[1] См. Ольга Седакова, Апология разума, М.: Русский путь, 2013.
[2] Проблема бытия Бога и доказательств Его существования вновь стала широко обсуждаемой в последние десятилетия. См. об этом на русск. (литературу о проблеме зла см. ниже): С. Т. Дэвис, Бог, разум и теистические доказательства, М.: Наука – Восточная литература, 2016; А. Ацель, Почему наука не отрицает существование Бога?, ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2015; Аналитический теист: антология Алвина Плантинги, М.: Языки славянской культуры, 2014; ; А. Плантинга, Бог, свобода и зло, Новосибирск: ВО «Наука», Сибирская издательская фирма, 1993; P. Суинберн, Существование Бога, М.: Языки славянской культуры, 2014; Р. Суинберн, Есть ли Бог? М.: «Праксис», 2001; Т. П. Флинт и М. К. Рей (сост.), Оксфордское руководство по философской теологии, М.: Языки славянской культуры, 2013; Т. Моррис, Наша идея Бога. Введение в философское богословие, М.: Издательство ББИ, 2011; Р. Докинз, Бог как иллюзия, М.: КоЛибри, 2010; Ф. Коллинз, Доказательства Бога: Аргументы ученого, М.: Альпина нон-фикшн, 2008; А. Хаутепен, Бог: открытый вопрос. Богословские перспективы современной культуры, М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2008; Н. Фишер, Философское вопрошание о Боге, М.: Христианская Россия, 2004; Т. Л. Мизи, Г. Р. Хабермас, Зачем верить? Бог есть! Симферополь, 1998. Западную (англоязычную) библиографию см. в первой из указанных книг и в примечаниях в других. Из доступной мне англоязычной литературы: Christopher Watkin, 2011; Rebecca N. Goldstein, 2010; John R. Shook, 2010; David J. Bartholomew, 2008; James Porter Moreland, 2008; Alvin Plantinga and Michael Tooley, 2008; Erik J. Wielenberg, 2008; Louise M. Antony (ed.), 2007; John Foster, 2007; C. Stephen Layman, 2007; Graham Oppy, 2006; Timothy L. S. Sprigge, 2006; Sam Harris, 2005; Nicholas Everitt, 2004; Denys Turner, 2004; Bert Thompson, 2003; Barry Miller, 1996; Donald Wayne Viney, 1985; J. L. Mackie, 1983; Arthur C. Cochrane, 1956.
[3] По мысли Гераклита, которую развил Марк Аврелий (VII.9): «космос один из всего, и Бог один через всё, и сущность одна, и закон один, общий разум у всех разумных существ, и истина одна».
[4] Вновь по мысли Гераклита (фр. 45 DK): «Границ души не отыскать, по какому бы пути ты ни пошел: такой глубокий у нее логос».
[5] Мартин Хайдеггер, Введение в метафизику, § 1: Grundfrage, Die dem Range nach erste, weil weiteste, tiefste und ursprünglichste Frage — «Основной вопрос, по рангу первый, ибо обширнейший, глубочайший и изначальнейший вопрос».
[6] Для меня почти несомненно, что «забота», о которой я здесь говорю, — это, по сути, Sorge Хайдеггера, которая, возможно, восходит к ‘inyân Экклесиаста (это еврейское слово встречается только в этой библейской книге, причём проходит сквозь всю книгу, что даёт право считать его чуть ли «техническим термином» автора: 1:13; 2:23, 26; 3:10; 4:8; 5:2, 13; 8:16; переводится оно в Синодальном и других переводах в разных местах различно). Ср. Владимир Бибихин, Мир (СПб: Наука, 2007, с. 63-64): «В следующем 10-м стихе [Эккл. 3:10] говорится: "Видел я эту заботу, которую дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в том", более точный смысл — "чтобы они терзались этой заботой". Забота утишается отчасти в делах, служащих частным целям, — скажем, собрать урожай, чтобы пережить зиму, — но в целом не успокаивается.» Татьяна Лифинцева в статье «“Забота” Хайдеггера, “бытие-для-себя” Сартра и буддийская духкха: онтология негативности» (Вопросы философии, № 7, М.: Наука, 2015 http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1196&Itemid=52) в связи с термином «забота» у Хайдеггера и cura у Сенеки цитирует 2 места из Экклесиаста — 2:23 и 4:8, — в обоих из которых фигурирует ‘inyân, хотя сама Лифинцева, вероятно, не сознавала этого, так как процитированная часть во 2-м случае не включает этого слова.
[7] Письмо А. Н. Майкову от 25 марта / 6 апреля 1870 г.: «Главный вопрос (…) — тот самый, которым я мучился сознательно и бессознательно всю свою жизнь, — существование Божие». — Ф. М. Достоевский, Собрание соч. в 15-ти томах. Ленинград: Наука, 1988-1996, т. 15, с. 455. http://rvb.ru/dostoevski/01text/vol15/01text/490.htm
[8] Вопросу о том, как «правильно» называть Бога, об именовании Бога я посвятил ряд очерков «Неименуемое Имя», опубликованных на портале «Религия в Украине».
[9] В. Н. Лосский, Богословское понятие человеческой личности и др. работы: Очерк мистического богословия…, Догматическое богословие. См. их: http://azbyka.ru/otechnik/Vladimir_Losskij/
[10] Напомню, кстати, что с размышления над этой строкой псалма начинается размышление Ансельма в Прослогионе, впоследствии названное онтологическим доказательством, и с защитой этого псаломского «безумца» связано первое возражение на онтологический аргумент монаха Гаунило.
[11] Не случайно те двое, на ком завершилось развитие классической философии (от зарождения в Элладе до немецкого идеализма), т.е. Гегель и Шеллинг, при всей противоположности основания своих систем, одинаково пришли к выводу, что предмет философии, как и религии, «вечная истина в ее объективности, Бог и ничто, кроме Бога и изъяснения Бога» (Гегель, Лекции по философии религии, Введение); что вся предыдущая философия была лишь «негативной» по характеру и только расчистила путь к подлинной, «позитивной» философии — философии откровения (Шеллинг, первые лекции по философии откровения).
[12] Как классические (у Августина, Фомы Аквината, Декарта и Лейбница), так и такие нестандартные, как у о. Павла Флоренского в Иконостасе: «Есть “Троица” Рублева, следовательно, есть Бог», или у о. Александра Шмемана в Дневниках: «как можно в міре, в котором родилась и прозвучала эта музыка [заключительный хор “Страстей по Матфею” Баха], не верить в Бога?» (запись 17.XI.1974).
[13] Это было отмечено уже в древности первыми христианскими апологетами, которые говорили язычникам: не требуйте от нас доказательств бытия Божия, потому что доказывают от более истинного к менее истинному, а Бог — это наиболее истинное, сама Истина, так что нет ничего более истинного, от чего можно было бы начать такое доказательство. В Новое время это возражение выдвигал Фридрих Якоби: доказывать безусловное значит превращать его в обусловленное, из причины делать следствие. Гегель несколько своих первых лекций о доказательствах бытия Божия посвящает обоснованию возможности умозаключения от условного, или случайного, к безусловному, или необходимому, воспроизводя, по сути, продуманное уже Аристотелем важнейшее методологическое различие между «первым по природе» и «первым для нас».
[14] Опубликован в книге Б. Рассела Почему я не христианин.
[15] Хотя принцип причинности относится к міру вещей, а закон достаточного основания к логике, но, кажется, оба коренятся в каком-то едином первоначале, или первооснове, бытия и мысли. Этот метафизический смысл особенно ясен у автора принципа достаточного основания — Лейбница, что блестяще показывает Хайдеггер в лекциях Положение об основании.
[16] Современный оксфордский философ Ричард Суинберн в книге Есть ли Бог?, опираясь на критерии объяснения в науке, показывает, что для объяснения устройства мира и человека разумнее (именно в научном смысле слова) предположить существование Бога, чем Его отсутствие.
[17] Могу сослаться здесь на одного из пионеров религиоведения, Корнелиса Тиле, который в своих Основных принципах науки о религии (1904) указывает на два источника религии: идею бесконечного и «врожденную мыслительную форму, которую мы называем “инстинкт причинности”» (в кн. Классики мирового религиоведения, М., «Канон», 1996, с. 194).
[18] Вот примеры Гегелевских формулировок космологического аргумента: «Бытие конечного — это не его собственное бытие, но напротив, бытие его иного, бесконечного» (вставка к 10-й лекции о доказательствах бытия Божия); «абсолютная необходимость — бытие и истина случайного» (13-я лекция).
[19] Ю. В. Горбатова, «Норман Малкольм об онтологическом аргументе», Философия. Язык. Культура. Вып. 3. СПб.: Алетейя, 2012, с. 90-100.
[20] Аналитический теист. Антология Алвина Плантинги, М.: Языки славянской культуры, 2014, с. 113-143.
[21] Д. Н. Дроздова, «Александр Койре и Поль Жильбер об аргументе св. Ансельма», в кн.: Трансцендентное в современной философии: направления и методы, СПб.: Алетейя, 2013, с. 105-123; Анна Ямпольская, «Феноменологическое прочтение онтологического аргумента: Левинас и Койре», Докса. Збірник наукових праць з філософії та філології, Одесса, 2006, с. 182-187; Она же, Эмманюэль Левинас. Философия и биография, Киев: Дух і літера, 2011, с. 326-332.
[22] Еще один, малоизвестный и близкий по духу рассуждениям Декарта и Франка вариант онтологического аргумента принадлежит иеромонаху (впоследствии епископу) Михаилу (Грибановскому), Истина бытия Божия, СПб., 1888, репр. СПб., 2004. Он исходит из понятия безусловно-должного и спрашивает: может ли истина как безусловно-должное быть одной формой без содержания, т.е. только идеей без реального бытия в его полноте, которое привлекает к себе не только наш ум, но и чувства и волю? И показывает, что даже для чистого рассудка это ведёт к внутреннему противоречию в понятии безусловно-должного.
[23] См. одно из лучших, на мой взгляд, изложений по-русски классических философских доказательств бытия Божия (кроме онтологического, относительно которого, как я уже сказал, самое глубокое понимание принадлежит Франку) — в лекциях дореволюционного философа Московской Духовной академии В. Д. Кудрявцева-Платонова, в недавнем переиздании: Философия религии, М., 2008.
[24] Неразрешимую парадоксальность, апорийность этой проблемы я обсуждаю в статье Вера и философия. Последний вариант текста: https://esxatos.com/vestel-vera-i-filosofiya
[25] «Against Pascal I say: The God of Abraham, Isaac, and Jacob and the God of the philosophers is the same God. He is a person and the negation of himself as a person.» — Paul Tillich, Biblical Religion and the Search for Ultimate Reality (1955), in Writings in the Philosophy of Religion. Religionsphilosophische Schriften, Berlin–New-York, 1987, p. 388. О рецепции Паскаля религиозным экзистенциализмом см. Г. Я. Стрельцова, Паскаль и европейская культура, М.: Республика, 1994, гл. VII «Паскаль и экзистенциализм».
[26] Жизнь и житие священника Димитрия Клепинина, М., 2004, с. 102. Конечно, если спасение и вечную жизнь понимать именно так, отмеченное выше противопоставление снимается, но все же обычно их понимают в «прикладном», более того, прагматически-утилитарном смысле.
[27] Здесь я опять вынужден сослаться на свои очерки «Неименуемое Имя» на портале «Религия в Украине». Ср. высказывания Вячеслава Иванова: «Недаром как бы на знамени этой жреческой религии — на портике дельфийского храма — были начертаны многозначительные в своей гиератической краткости изречения: “(ты) еси” (ЕІ, ибо таково естественное истолкование всегда казавшегося загадочным слова) и “Познай самого себя” (мы разумеем: как сущего, — познай в себе Самого, т.е. Атмана индусов), — что прямо обращает нас к “Еси” (asi) и “То ты еси” (tattvamasi) ведической философии, — быть может, общему и международному достоянию сокровенной, эсотерической мудрости жрецов и феургов, для которой понятие и слово “бытия” уже само по себе заключало идею божественности, как это сквозит еще в элеатском учении о бытии или в еврейских монофеистических формулах: “Сущий”, “Аз есмь” “Я буду, кто буду”» (Эллинская религия страдающего бога; в кн.: Эсхил, Трагедии. В переводе Вячеслава Иванова, М., «Наука», 1989, сс. 343–344). «Я со своей стороны вижу диалектику исторического процесса в непрестанном трагическом диалоге между Человеком и Тем, Кто вместе с образом Своим и подобием даровал ему и Свое отчее Имя АЗ ЕСМЬ, дабы земной носитель этого Имени, блудный сын, мог в годину возврата сказать Отцу: Воистину ТЫ ЕСИ, и только потому есмь аз. Мой отрыв от Тебя опровергает само бытие мое. Ту видимость бытия, какою хочет обольстить и подкупить меня моя пустая, призрачная, мятежная свобода, отвергает мое благородство, родовая память, которую Ты в меня вложил, сотворяя, рождая меня. Имя, коим я себя именую, сжигает меня Твоим огнем. Ни отменить и истребить этого Имени, ни осуществить его я не могу. Ты восхотел, чтобы я был; и утверждая себя, я в самом противлении моем утверждаю Тебя. Пусть же Твое Имя, которым Ты знаменовал чело мое, будет на нем не печатью беглеца-Каина, но светом Отца на челе сына. — Таково будет, по христианскому упованию, последнее слово Человека в его долгой тяжбе с Богом, — в трагическом состязании, именуемом всемирною историей. Это слово будет впервые преодолением человеческой тварности и выходом его блуждающей свободы в истинную свободу чад Божиих» (Письмо к Александру Пеллегрини о "docta pietas", в: Вячеслав Иванов, Собрание сочинений, III, Брюссель, 1979, с. 445-447).
[28] Сопоставлению, точнее, главным образом, контрасту между библейским и греческим (шире — философским) мышлением посвящено сравнительно немного литературы. В частности, это книги французского религиоведа (философа) и библеиста Клода Тремонтана (Tresmontant), известная книга норвежского богослова Торлифа Бомана «Сравнение еврейской мысли с греческой» (вышла на нем. языке: Thorleif Boman, Das hebräische Denken im Vergleich mit dem Griechischen, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1952; есть англ. перевод), книги и статьи современного исследователя Jaco Gericke.
[29] Считается, что это открытие Гегеля, но, возможно, прав Шеллинг, что честь открытия принадлежит ему, Шеллингу, хотя Гегель успел построить на этом свою систему, а Шеллинг нет.
[30] Возможно, как я не раз уже отмечал здесь, вся доказательность, обоснованность бытия Божия сводится к продумыванию понятия существования, или смысла бытия (собственно, вопроса: что значит существовать?), как это было, кажется, вполне ясно средневековым философам; см. Этьен Жильсон, Дух средневековой философии, М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2011.
[31] См. С. Л. Франк, Непостижимое, гл. X.3.
[32] Впервые отчетливо сформулировано (после подобных рассуждений Эпикура и Секста Эмпирика) в De ira dei Лактанция.
[33] См., напр., И. Кант, О неудаче всех философских попыток теодицеи, С. Франк, Непостижимое, гл. X.3. Из недавних работ: Ларс Свендсен, Философия зла, М., 2008, с. 97: все теодицеи — «теоретический тупик». См. свежие хорошие обзоры, также с выводом о неприемлемости рассмотренных теодицей: Иерей Стефан Домусчи, «Проблема теодицеи в истории философии и православном богословии», Евразия: духовные традиции народов, № 1, 2012; Г. Н. Мехед, «Проблема теодицеи в русской нравственной философии», VOX: философский журнал 2009, № 6; А. Добжински, «О возможности философской онтологии зла: к постановке проблемы», Вестник ПСТГУ, Вып. 4 (32), 2010, с. 33–42. К нерешённости или даже нерешаемости этой проблемы склоняется, как мне кажется, большинство участников конференции: Проблема зла и теодицеи: Материалы междунар. конф. Москва, 6–9 июня 2005 г. М., 2006. Современная англоязычная литература о проблеме зла и теодицеи огромна и почти всегда работы на эту тему, если не движутся в русле христианской традиции, воспроизводя и разрабатывая классические варианты теодицеи, заканчиваются либо признанием непонятности и нерешённости проблемы, либо переосмыслением Бога, главным образом как сострадающего твари, либо мистико-практическим решением — необходимостью борьбы со злом. Итоговый обзор западных дебатов о теодицее: М. Дж. Мюррей, Теодицея в: Т. П. Флинт и М. К. Рей (сост.), Оксфордское руководство по философской теологии, М.: Языки славянской культуры, 2013. Из литературы о теодицее на русск.: Г. А. Бойд, Неужели Бог виноват? Проблема зла: как выйти за рамки легких ответов, Киев: Книгоноша, 2016; Ф. Янси, Почему? Вопрос, который остается всегда, К.: Ефетов А.В., 2015; Ж.-К. Ларше, Бог не хочет страдания людей, М.: Паломник, 2014; Т. Райт, Тайна зла: откровенный разговор с Богом, М.: Эксмо, 2010; А. Плантинга, Бог, свобода и зло, Новосибирск. ВО «Наука», Сибирская издательская фирма, 1993; А. П. Скрипник, Моральное зло в истории этики и культуры, М.: Политиздат, 1992. Из доступной мне англоязычной литературы: Andrea Poma, 2013; Daniel Castelo, 2012; John Hick, 2010; Bruce Langtry, 2008; Paul W. Kahn, 2007; James A. Keller, 2007; Hendrik M. Vroom (ed.), 2007; Brian Davies, 2006; Peter van Inwagen, 2006; David Roberts, 2006; James L. Crenshaw, 2005; Anna-Teresa Tymieniecka (ed.), 2005; Fred Berthold Jr., 2004; John S. Feinberg, 2004; Charles T. Mathews, 2004; Henning Graf Reventlow and Yair Hoffman (ed.), 2004; Jeff Astley, David Brown and Ann Loades (eds.), 2003; Antti Laato, Johannes C. de Moor, 2003; Sarah Katherine Pinnock, 2002; Charles K. Bellinger, 2001; James M. Petrik, 2000; David O'Connor, 1998; Michael L. Peterson, 1998; Michael L. Peterson (ed.), 1992; Tyron Inbody, 1997; Daniel Howard-Snyder, 1996; David Ray Griffin, 1991; John G. Stackhouse, Jr., 1998; Richard Swinburne, 1998.
[34] Обычно считается, что этот патристический взгляд (имеющий корни в Государстве Платона) полнее всего разработан у Августина, но, кажется, глубже и тоньше, особенно в связи с проблемой свободы воли, он трактуется у восточных отцов, причем не только у каппадокийцев, но и у аскетов – Ефрема Сирина и Диадоха Фотикийского. Наиболее радикальное отрицание субстанциональности зла — у Дионисия Ареопагита.
[35] Классическое решение поздней античности (также восходящее к Платону) и патристики (особенно у Августина), суммированное Фомой Аквинским в богословии и Лейбницем в философии.
[36] Виктор Ляху в книге Люциферов бунт Ивана Карамазова (М.: ББИ, 2011, c. 223) не находит, кажется, ничего лучшего, чем противопоставить бунту Ивана Лейбницеву предустановленную гармонию!
[37] В. Кантор, «Исповедь и теодицея в творчестве Достоевского (рецепция Аврелия Августина)», Вопросы философии 4, 2011.
[38] Иерей Георгий Белькинд, «Оправдание смысла». В кн.: Евгений Николаевич Трубецкой. Под ред. С. М. Половинкина, Т. Г. Щедриной. Москва: Политическая энциклопедия, 2014, с. 140.
[39] См. Е. Н. Трубецкой, «Свет Фаворский и преображение ума», Вопросы философии 12, М., 1989.
[40] В. Алексеев, «Проблема теодицеи в творчестве Достоевского», Реалис, http://realis.org/index.php/uk/e-library/articles/problema-teoditsei-v-tvorchestve-dostoevskogo
[41] Н. Бердяев, «Древо жизни и древо познания», Путь 18, Париж, 1929, с. 106. См. еще: Он же, «Из размышлений о теодицее», Путь 7, Париж, 1927.
[42] Георгий Чистяков, Нисхождение во ад. Из записок московского священника. http://tapirr.com/ekklesia/chistyakov/razm_sevang/nishozhdenie.htm
[43] Н. Гвелесиани, Христианству — две тысячи лет, а мы все еще друзья Иова: http://samlib.ru/g/gwelesiani_n/knigayova.shtml
[44] А. Хаутепен, Бог: открытый вопрос. Богословские перспективы современной культуры, М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2008, с. 136.
[45] Н. Бердяев, Миросозерцание Достоевского, в кн.: Н. А. Бердяев о русской философии, Изд-во Уральского ун-та, 1991, с. 68. Несколько иначе, но в близком смысле рассуждает Симона Вейль: «Истинный Бог — это Бог, о Котором мы знаем, что Он всемогущ, но не повелевает повсюду, где имеет власть… […] Чистое благо нигде в этом мире не встречается. Отсюда должно следовать одно из трех:
— или Бог не всемогущ,
— или Он не абсолютно благ,
— или же Он не повелевает везде, где имеет власть.
Итак, существование зла в этом мире не только не является доводом против реальности бытия Бога, но открывает ее нам во всей истине» (Симона Вейль, Формы неявной любви к Богу. Пер. П. Епифанова. Санкт-Петербург: Свое издательство, 2012, с. 194).
Юрий Вестель,
редактор издательства «Дух і літера» (Киев, Украина)
 Юрий Вестель
Юрий Вестель
В 1979 г. окончил Российский государственный университет нефти и газа. Работал инженером и научным сотрудником в геофизических учреждениях Киева в течение 1979–1990 гг. (занимался внедрением математических методов в геологию и геофизику). Самостоятельно изучал библейский иврит (примерно с 1983 г.).
Впоследствии (в 1991-1993) уже как преподаватель Ассоциации учителей иврита «Лави» прослушал несколько специальных курсов по современному ивриту от преподавателей из Израиля.
В течение 1990–1992 гг. изучал древнегреческий под руководством профессора КГУ им. Т. Г. Шевченко, доктора филологии Т. М. Чернышовой. В 1996–1997 гг. в качестве вольнослушателя посещал курсы Л. Л. Звонской в КГУ.
Примерно с 1993 г. возглавлял неофициальный домашний теологический семинар, затем аналогичный в Институте философии НАН Украины, со временем в НаУКМА.
В 1994–1995 гг., благодаря гранту Международного фонда «Возрождение», принимал участие в создании компьютерного учебного пособия под названием «Информационное пространство Евангелия от Иоанна» как автор историко-филологического комментария к тексту Евангелия (руководитель проекта – доктор филологии И. П. Белецкая; программа «Трансформация гуманитарного образования. Создание гипертекстовых учебников»).
В 1997–2000 гг. преподавал греческий язык Нового Завета и библейский иврит в Киевской пресвитерианской семинарии «Благодать и Истина». В 2002–2004 гг. работал научным редактором издательства «Пролог».
В 2005–2008 преподавал в Высшей христианской гуманитарной школе (ВХГШ, ныне прекратившей существование) курсы «Введение в библейскую герменевтику», «Экзегетика Ветхого Завета», «Чтение Священного Писания на языке оригинала». В 2009 и 2010 гг. преподавал в Институте религиозных наук св. Фомы Аквинского авторский курс «Nomen ineffabile» (о значении Божьего имени в Ветхом Завете).
С 2004 г. работает в издательстве «Дух и литера» научным редактором, а также координатором Международной богословской конференции «Успенские чтения» и координатором Киевского Летнего богословского института (КЛБИ).
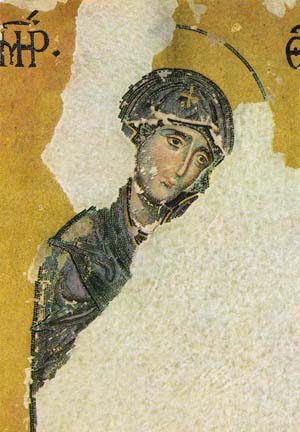




Комментарии
Пока нет комментариев. Будьте первым!