ЛИТУРГИЯ И ЭСХАТОЛОГИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО
Прот. Николай Артемов, Мюнхен
«Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет, Вседержитель» (Откр. 1, 8). Не только «был» и не только «грядет». Средоточие и скрепа этих слов -«есть». В Записной тетради 1864 года Достоевский цитирует повеление Христа апостолам учить и крестить во имя Пресвятой Троицы: «Шедше научите вся языцы» (20, 202 - все цитаты по изданию Ф.М. Достоевский, ПСС, «Наука», Л. 1972-1988) - к этим словам Спаситель присовокупляет: «И се азъ с вами есмь до скончания века, Аминь» (Мф 28:20). В другой записной тетради того же периода Достоевский отмечает: «Мы приняли Святого Духа, а вы к нам несете формулу» (20, 205).
Творчество Достоевского христоцентрично и эсхатологично, и поэтому его определяет литургическая перспектива. В центре Литургии, на евхаристическом каноне, после произнесения слов о Плоти и Крови Христовых священник поминает все то, что ради нас было («вся яже о нас бывшая»): «крест, гроб, тридневное воскресение, на небеса восхождение, одесную седение, второе и славное паки пришествие, Твоя от Твоих, Тебе приносяще, о всех и за вся, Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим...». В своей надвременной перспективе Литургия - по ту сторону страшного суда, и вместе с тем она же заключает в себе суд, являясь местом, в котором «князь мира сего» не имеет ничего, где он уже осужден и изгнан вон (Иоан 12, 31; 14, 30; 16, 11).
Церковное измерение в творчестве Достоевского - не декоративный момент, привходящий со стороны. У Достоевского литургически-эсхатологическая перспективу находится в самом центре его творчества. Он сам делает ее структурно-образовательным моментом своих произведений. Цель доклада поэтому состоит не в перечислении эсхатологических или апокалиптических образов и тематики в произведениях нашего автора, а раскрытие того ключевого принципа, который напрямую связан с цельной литургической эсхатологией и без осознания которого мысль Достоевского как автора распадается, порождая лишь недоразумения и мнимые противоречия. Впрочем, Достоевский как художник на подобных «срывах» - прослеживая их судьбу - строил свои объемные образы.
Приведем только один пример такого «срыва»: Когда Иван Карамазов в начале своей поэмы о великом инквизиторе говорит о некой многовековой пламенной молитве «Бо Господи явися нам» (14, 226), он тем самым перевирает ключевые слова не только богослужения Утрени, но и Литургии. Они знаменуют момент выноса литургической Чаши ко причащению. У Ивана литургическая перспектива надвременности и надпространственности Чаши исключена - остается проекция в одностороннее будущее, в то время как Церковь словами Псалма 117, 27 литургически объемлет прошлое, настоящее и будущее в Чаше реально открывая целокупность эсхатологической истины Христа: «Благословен грядый во имя Господне, Бог Господь и явися нам». Уже явился нам и вечно явился: «Христос посреде нас!», «И есть и будет» (литургический возглас). Такое искажение цитаты не случайно, равно как и то, что всем известная как слова Ивана Карамазова цитата «все позволено» (везде в романе появляется только в кавычках, даже у самого Ивана) на самом деле принадлежит не Ивану. Ее подлинный автор - святой Апостол Павел. Остается проверить литургический контекст.
Эти слова читаются в православных храмах дважды в году, а именно в преддверии великого поста: в воскресенье, посвященное возвращению «блудного сына», и в конце седмицы «о блудном сыне» (1 Кор 6, 12; 1 Кор 10, 23-24). В 1856 году Достоевский начал писать Записки из Мертвого дома, где тема «блудного сына» упоминается по поводу одного «отцеубийцы» (4, 15-16, 195). Реальная фамилия его Ильинский. Так называет в записных тетрадях к Братьям Карамазовым прототип Димитрия Карамазова.
Отцеубийство - стержень всего романа, касается всех братьев, включая Смердякова. Алеша Карамазов, «неопределенный герой» (Предисловие «От автора», 14, 6) оказывается главным «отцеубийцей» именно в литургической перспективе: Скрытое в его отношении к духовному отцу Зосиме «отцеубийство», равно как и «возвращение блудного сына» (Алеши) определяет в целом ход романа и, через его отношение к братьям, самое движение в пространстве. В произведениях Достоевского таких примеров - сотни. Объем доклада не позволяет коснуться и малой части их.
Следует отметить, что взаимосвязь этих моментов единит отдельные произведения Достоевского, романы и публицистику не извне, а изнутри как имманентно-структурный принцип.
Научная разработка этой темы в целом могла бы быть темой для ряда литературоведческих семинаров, поскольку литургическая, церковная перспектива эсхатологической тематики Достоевского, кажется, все еще не достаточно рассмотрена.
С философской точки зрения наш автор изучался как русскими, так и западными авторами. Беда, если остается незамеченным, что Достоевский, попросивший было своего брата Михаила прислать ему в ссылку Гегеля и творения святых отцов, передарил Н. Страхову годы спустя полученную им книгу Гегеля неразрезанной. Гораздо большая беда, когда Н. Бердяев росчерком пера списывает со счета свято-отеческое наследие в творчестве Достоевского («Миросозерцание Достоевского», Париж 1968, С. 23). Целостный структурный анализ доказывает иное: Святоотеческая традиция гораздо более значима для Достоевского, чем представлял себе это Бердяев, и не на уровне «идеологии», а при воплощении образов и в методе обращения со словом построение произведений Достоевского коренится в церковном восприятии.
«Полифония» Достоевского, при которой все герои, а также автор и читатель «равноправны», основана на этой эсхатологии, на незавершенности каждого из персонажей и, тем самым, сохранении внутренней свободы его слова, причем автор и читатель также сохраняют свободу слова о героях (см. М. Бахтин, «Проблемы поэтики Достоевского», М. 1972). Учет чужого слова, внутренняя оглядка, предположения, подозрения включаются в сплетения ситуаций и, в первую очередь в словесно-образовательную ткань произведений.
Это доходит порой до крайней полемичности как, например, у «анти-героя» в «Записках из подполья» с его постоянной рефлексией в борьбе за незавершенность своего слова, свою свободу. Что же касается эсхатологии, то в связи с такой незавершенностью появляется известный образ «муравейника», как высшего идеала:
«С муравейника достопочтенные муравьи начали, муравейником, наверно, и кончат, что приносит большую честь их постоянству и положительности. Но человек существо легкомысленное и неблаговидное и, может быть, подобно шахматному игроку, любит только один процесс достижения цели, а не самую цель [...] может быть, что и вся цель на земле, к которой человечество стремится, только и заключается в одной этой беспрерывности процесса достижения, иначе сказать - в самой жизни, а не собственно в цели, которая, разумеется, должна быть не иное что, как дважды два четыре, то есть формула, а ведь дважды два четыре есть уже не жизнь, господа, а начало смерти.» (5, 118-119)
«Муравейник» как завершение человеческого идеала здесь отвергается наряду с «хрустальным дворцом», который поставлен наравне с «курятником». Однако, с не меньшей силой «подпольный человек» отвергает заявку на процесс бесконечной динамики, дурной бесконечности. Подпольный человек восклицает: «дайте мне другой идеал». «Я, может быть, на то только и сердился, что такого здания, которому бы можно было не выставлять языка, из всех ваших зданий до сих пор не находится. Напротив, я бы дал себе совсем отрезать язык, из одной благодарности, если б только устроилось так, чтоб мне самому уже более никогда не хотелось его высовывать» (5, 120-121).
Знаменательно, что в связи с изданием «Записок из подполья» Достоевский написал:
«Свиньи цензора, там, где я глумился над всем и иногда богохульствовал для виду, - то пропущено, а где из всего этого я вывел потребность веры и Христа - то запрещено.» (28 кн.2, С. 73 -выд. ФМД)
Видимая на поверхности диалектика достижимости и недостижимости идеала скрывает стоящую за этим христоцентричность. В записи от 16.04.1864 г., которую Достоевский сделал, сидя рядом со своей умершей супругой, речь о «двойственности» для человека «в состоянии переходном». Из стремления человека «к идеалу противоположному его натуре» Достоевский выводит, что «человек, достигая, оканчивает свое земное существование», и отсюда выводит будущую вечную жизнь. Отвергая ошибку «антихристов» с их атеистическими слишком земными представлениями, он размышляет о полном перерождении: «Но если человек не человек - какова же будет его природа? Понять нельзя на земле, но закон ее может предчувствоваться». Рассуждение строится на том, что память людей и их дела продолжают жить.
Называя Христа «великим и конечным идеалом всего человечества», Достоевский утверждает, что в отличии от остальных людей, лишь «часть» которых «входит и плотью и одушевленно в других людей», - «Христос весь вошел в человечество, и человек стремится преобразиться в я Христа как в свой идеал». При достижении конечного, неземного всеобщего идеала, то есть при воскресении из мертвых, стремившийся к этому человек «ясно увидит, что и все, достигавшие на земле этой же цели, вошли в состав его (Его - Н. А.) окончательной натуры, то есть в Христа». Достоевский восклицает: «Синтетическая натура Христа изумительна», связывая это с божественностью Христа. Наконец, он пишет: «Как воскреснет тогда каждое я - в общем Синтезе -трудно представить. Но живое, не умершее даже до самого достижения и отразившееся в окончательном идеале - должно ожить в жизнь окончательную, синтетическую, бесконечную. Мы будем - лица, не переставая сливаться со всем, не посягая и не женясь, и в различных разрядах (в дому Отца Моего обители многи суть). Всё себя тогда почувствует и познает навечно. Но как это будет, в какой форме, в какой природе, - человеку трудно и представить себе окончательно».
Закон стремления к идеалу, согласно этой записи Достоевского, есть приношение «любовью в жертву своего я». Иначе говоря, именно в жертвенной любви раскрывается изумительная «синтетическая натура Христа». В жертве общества и особи друг другу, то есть в жертве каждой из этих сторон другой стороне - «оба, и я и все (по-видимому, две крайние противоположности), взаимно уничтоженные друг для друга, в то же самое время достигают и высшей цели своего индивидуального развития каждый особо. Это-то и есть рай Христов». В такой жертве - предвкушение будущей вечной жизни.
Это нисколько не снимает того, с чего Достоевский начинал эти свои размышления -сохраняется недостижимость идеала, невозможность исполнить заповедь любви: «Один Христос мог, но Христос был вековечный от века идеал». Так явление Христа «как идеала человека во плоти» указало и вечно указывает на «высочайшее, последнее развитие личности», к которому «по закону природы должен стремиться человек». «Полнота развития личности» заключается в чистейшей жертве, в которой «райское наслаждение исполнение закона» Христова. Страдание и радость, крест и воскресение, стремление к недостижимому и постижение, то что выглядит поначалу как «двойственность» оказывается вполне уравновешенным в жертвоприношении: «Тут-то и равновесие земное. Иначе земля была бы бессмысленна», пишет Достоевский и заключает: «Учение материалистов - всеобщая косность и механизм вещества, значит смерть. Учение истинной философии - уничтожение косности, то есть мысль, то есть центр и Синтез вселенной и наружной формы ее - вещества, то есть Бог, то есть жизнь бесконечная» (20, С. 172-175 - все курсивы в цитатах Ф.М.Д.).
В контексте слов «Бог», Синтез», «центр» - слово «мысль» не означает мысль абстрактную, а Логос как конкретный центр космоса и жизни, от Которого все и к Которому все. Об этом «Слово плоть бысть и вере в эти слова» Достоевский пространно пишет позже в записных тетрадях к «Бесам» в связи с вопросом перерождения, воскресения из мертвых, и целым рядом образов из Апокалипсиса (11, 179 - курсив Ф.М.Д.). «Не мораль Христова, не учение Христа спасет мир, а именно вера в то, что Слово плоть бысть. Вера эта не одно умственное признание превосходства Его учения, а непосредственное влечение. Надо именно верить, что это окончательный идеал человека, все воплощенное Слово, Бог воплотившийся. Потому что при этой только вере мы достигаем обожания, того восторга, который наиболее приковывает нас к Нему непосредственно и имеет силу не совратить человека в сторону.» (11, 187-188)
Цитированные записи к «Бесам» стоят в романе за встречей Ставрогина с Шатовым, при которой Ставрогин отмечает: «Вы всё настаиваете, что мы вне пространства и времени.». Именно при этой беседе речь про народ-«богоносец», про Рим, который «провозгласил Христа, поддавшегося на третье дьяволово искушение», и про заветную формулу исповедания Христа: «Но не вы ли говорили мне, что если бы математически доказали вам, что истина вне Христа, то вы бы лучше согласились остаться со Христом, нежели с истиной?» - каковую формулу Достоевский написал в 1854 году Н. Д Фонвизиной. Наконец на высшей точке накала разговора Шатов вдруг восклицает: «Но вам надо зайца?» И удивленному Ставрогину напоминает: «Ваше же подлое выражение»: «чтобы сделать соус из зайца, надо зайца, чтобы уверовать в Бога, надо Бога» (10, 196-200). Такие слова-сигналы у Достоевского в высшей степени важны. «Заяц» появляется в его творчестве в связи с литургической перспективой, в связи с эсхатологией.
Рассуждая о путях России и Европы в 1862 г., до "Записок из подполья" Достоевский уже жестоко обрушивался на Ж. Ж Руссо с его l'homme de la nature et de la verite. В "Зимних заметках о летних впечатлениях", он противопоставил "общественному договору" известного француза свою литургическую эсхатологию. Эти сравнительно ранние зарисовки содержат ключевые моменты для последующего творчества Достоевского, для его больших романов.
Прелюдия к этому моменту в "Зимних заметках." - посещение Лондона и «хрустального дворца». Образы, данные здесь, разворачиваются потом в «Записках из подполья», в «Преступлении и наказании», в «Идиоте», в «Бесах», наконец - в поэме о Великом инквизиторе. Индивидуализм и необходимость «устроиться в одном муравейнике; хоть в муравейник обратиться, да только устроиться, не поедая друг друга - не то обращение в антропофаги!» Слово антропофагия, пожирание друг друга, здесь поставлено не случайно - на основе воплотившегося идеала самопожертвования этим оттеняется принятие Тела и Крови Христовых.
В "Братьях Карамазовых" не иначе: чашу, на которой будет написано "Тайна", воздвигнут воссевшие на зверя, именно тогда приползшего к их ногам, когда "начав возводить свою Вавилонскую башню без нас, они [люди - Н. А.] кончат антропофагией" (14, 235). Слова Великого инквизитора примыкают к описанию "Зимних заметок.", где речь о поклонении Ваалу и о Вавилоне, ввиду созданий «могучего духа», поскольку «царит этот гордый дух». Как и в Великом инквизиторе слова Христовы о «едином стаде» поставлены здесь в анти-евангельский контекст подмены Пастыря, то есть покорения иного, как давящей необходимости «занеметь окончательно» - на фоне «исполинской гордости владычествующего духа», умолкнуть о Царствии Божием: «много надо вековечного духовного отпора и отрицания, чтобы не поддаться, не подчиниться впечатлению, не поклониться факту и не обоготворить Ваала, то есть не принять существующего за свой идеал.» (5, 69-70).
Главное же Достоевский открывает, возвращаясь к теме Парижа, на основе революционной триады - свободы, равенства и братства. Он противопоставляет Литургию «общественному договору», попыткам устроить жизнь в ключе индивидуализма, или социализма, или так тогда называемого «разумного эгоизма». Разбирая понятие «братства», Достоевский прикрыто говорит о Церкви, когда подчеркивает, что «сделать братства нельзя», и заявляет, что «оно само делается, дается, в природе находится» (5, 79). «Общественному договору», за которым стоит выгода каждого по отдельности и всех вместе, Достоевский противопоставляет самопожертвование как выражение «высочайшего развития личности», полнейшего преодоления страха за себя: «Это закон природы; к этому тянет нормально человека». Чрезвычайно интересует нашего автора та тончайшая грань, которая отделяет истинное самопожертвование от ложного.
Здесь Достоевский называет это «волоском», который «если попадется под машину» то моментально все разрушается, искажается. Роль этого «самого тоненького волоска», самолюбия, Достоевский исследовал во всех своих романах до крайности, до последних пределов. Природа греховная препятствует жертве, "тянет" в противоположную ей сторону. Ставрогин в «Бесах» (олицетворение отрицательной свободы) именно поэтому бледнеет "на пороге" от пароксизма страха, исчерпав свои силы, пребывает в параличе, а Кириллов (другое олицетворение свободы) на последнем этапе превращается в дикого, кусающегося зверя. Все это - действие пресловутого "волоска", который в образной системе Достоевского нередко появляется как "порог" (см. исследование Доминики Арбан, "Порог у Достоевского"). Преодоление себялюбия, совершается не своими силами, а во Христе.
Поскольку надвременность, которую отмечает Ставрогин в разговоре с Шатовым, должна - по Достоевскому - сопутствовать воплощению идеала, то есть подлинной эсхатологии, он в "Зимних заметках.", в своем рассуждении об истинном "братстве", отстраивает перспективу надвременности супротив якобы имевшего в прошлом место первобытного «общественного договора» индивидов. Он утверждает: В настоящем братстве прежде всего общество «должно бы было само прийти к этой требующей права личности», признавая ее «равноценным и равноправным себе, то есть всему остальному, что есть на свете», а личность «прежде всего должна бы была всё свое Я, всего себя пожертвовать обществу и не только не требовать своего права, но, напротив, отдать его обществу без всяких условий».
Таким образом, устанавливается двуединая первичность для каждой стороны - как для личности, так и для общества в целом. На следующей странице при цикличном развитии той же мысли Достоевский создает диалог, в котором личность со своей стороны отдает себя всю всем, видя только в этом свое счастье, а «братство», в свою очередь, со своей стороны отдает себя как целое этой единственности личности. «После этого, разумеется, уж нечего делиться, тут уже всё само собою разделится», пишет Достоевский. Но ведь так не бывает! Здесь явно нечто потустороннее, а Достоевский и сам подчеркивает это, приводя слова, взятые из двух разных мест Евангелия: «Любите друг друга, и всё сие вам приложится. Эка ведь в самом деле утопия, господа! (.) Как вы думаете? Утопия это или нет?» (5, 79-80)
Конечно, это совсем не утопия, а реальность, имеющая место и время, когда "в последние времена" Бог говорит нам Сыном Своим. Вторая половина цитаты взята автором из нагорной проповеди. На фоне ее громогласно звенит первая ее (скрытая) часть: «Ищите же прежде Царствия Божия и правды Его» (Мф. 6, 33). Так Царство Божие противопоставляется и утопии и общественному договору.
Нагорная проповедь тут звучала немного ранее уже в словах о личности, которая должна бы -«отдавать всё и даже желать, чтоб тебе ничего не было выдано за это обратно». Если это очевидно, то менее явно, но еще сильнее литургически-эсхатологическая перспектива проявляется в утверждаемой здесь необходимости, чтобы «тянуло на братство» (5, 79-80, см. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня» (Ио. 6, 44) и «когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе» (Ио. 12, 32).)
Самая подлинность личности ставится Достоевским в зависимость от стремления «отдать ее всю всем». В такой всеобъемлющей личностной жертве - проявление «высочайшей свободы собственной воли»: «Добровольно положить свой живот за всех, пойти за всех на крест, на костер, можно только сделать при самом сильном развитии личности» (5, 79). (К слову о «кресте» добавленное «костер» отводит нас к Великому инквизитору). Крест - по-гречески: ставрос - лишен своеволия. В крестном знамении совершенная любовь, которая "вон изгоняет страх", содержащий "муку" (1 Ио. 4, 18 - тема непосредственно связанная с "Исповедью" Ставрогина). А слова «положить свой живот за всех» указывают на Христовы евангельские слова о власти Сына не только положить душу, но и вновь взять Свою жизнь. Это место в Евангелии противопоставлено Достоевским образу стадности ложного "единого стада". Совсем иное «едино стадо» у истинного «единого Пастыря». Сын Человеческий осуществляет эту Свою власть в свете послушания заповеди, данной Ему Отцом (Ио. 10, 11.15-18).
Нельзя здесь не сказать и о Духе, Который тянет-влечет человека, покоряет ум в послушание Христу (2 Кор. 10, 5). Если слова о «природе» или «натуре», которая внутрь себя должна принять или же уже иметь влечение к «братству» могут удивлять, если они буду прочитаны на уровне социально-национальном, то совсем по-другому оборачивается дело, когда мы замечаем эсхатологически-литургическую перспективу: Речь о природном в соединении со сверх-природным, речь о мире и человеке, перерождаемом во Христе. Слова же о «перерождении» вводят в этой перспективе надвременность таинства крещения, связаного с двумя природами Богочеловека-Христа. Вспомним: «Синтетическая натура Христа изумительна. Ведь это натура Бога, значит, Христос есть отражение Бога на земле» (20, 174).
В «Зимних заметках о летних впечатлениях» Достоевский о действии таинства крещения-перерождения говорит как будто в аспекте временном: «Надо, чтоб (.) тянуло на братство (.), чтоб потребность братской общины была в натуре человека, чтоб он с тем родился или усвоил себе такую привычку искони веков». На самом деле же "рождение" и "усвоение" противопоставляются союзом "или" только условно: таинство крещения есть "рождение" от воды и Духа, а для "усвоения" Христовых «привычек» преподается следующее за ним таинство миропомазания («печать дара Духа Святого»). Оно даруется для искоренения греховных наклонностей (по святоотечески: страстей), для усвоения других привычек в подвиге послушания заповедям. (Алеше Карамазову в его духовном послушании даруется такая победа над соблазном «тлетворного духа». Она даруется духовным отцом - Зосимой, который "провонял". Смердит Смердяков иным "послушанием" Ивану Карамазову.)
Однако, при учете контекста таинств, стоит присмотрется и к тому, как автор здесь говорит о времени; ведь он сам подчеркивает: "искони веков", и то, что такое исконное «перерождение» укоренено в тысячелетиях: «перерождение это совершается тысячелетиями, ибо подобные идеи должны сначала в кровь и плоть войти, чтоб стать действительностью» (5, 79). Далее и слова о «плоти» и о «крови», которые при поверхностном чтении могут казаться случайными, звучат как слова-сигналы, для имеющих уши. Речь ведь о деле приобщения Христу, не только в перспективе тысячелетий, но и того, что "бе искони", в перспективе вечности, надвременности. Соответственно, слово-сигнал про «зайца», которое годы спустя в «Бесах» прозвучит в устах Ставрогина и Шатова применительно к Богу (см. выше).появляется в связи с вопросом о братской «натуре»: «Чтоб сделать рагу из зайца, надо прежде всего зайца. Но зайца не имеется, то есть не имеется натуры (.) которую само собой тянет на братство» (5, 81).
Бережно говорил Достоевский о вере и Церкви, бережно и осторожно. Гораздо позже приобрела мировую известность его формула исповедания Христа из письма Н. Д Фонвизиной: «Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной». Причем наш автор тут же присовокупил: «Но об этом лучше перестать говорить. Впрочем, не знаю, почему некоторые предметы разговора совершенно изгнаны из употребления в обществе, а если и заговорят как-нибудь, то других как будто коробит?» (28 кн. 1, С. 176, выд. ФМД).
Конечно, нельзя считать, что осторожность в вопросах веры и Церкви следует только из оглядки на общественное мнение. Это присутствувет, но гораздо важнее та «оглядка», которую Достоевский-автор перерабатывает в диалогическую открытость каждого слова в отношении к всегда присутствующим бесчисленным иным словам-идеям, притом личностным и часто противостоящим до крови. Это «чужое слово» как личная жизнь, суд над которой автор-Достоевский не берет на себя (что по его восприятию было бы «грубым», см. например письмо Н. П. Сусловой от 19.04.1865, т. 28 кн. 2, С. 121-122; и применительно к литературному творчеству письмо к Ю. Ф. Абаза 15.06.1880, 30 кн. 1, С. 192). Ни в коем случае в «полифонии» Достоевского не отсутствует нравственный стержень. Как раз напротив, «персоналистическое», личностно-нравственное начало пронизывает все его творчество, именно благодаря тому, что оно включено в самую структуру его художественного слова. Суд здесь предоставлен Другому, то есть Слову, которое стоит как над автором, читателем, героем, так и присутствует на самом глубинном уровне произведений, введен туда автором сознательно. Автор Достоевский в своем общении с читателем именно в диалогической открытости своего слова и слов своих героев, предоставляет суд тому Логосу, который для его произведения есть, равно как и для всего мироздания «Альфа и Омега».
К этой внутренней художественной логике, порой присоединялись внешние обстоятельства, не разрешающие высказать все задуманное. Уже упомянутые «свиньи-цензора» проявились, например, в той самоцензуре, которой следовал М. Н. Катков, издатель романа «Бесы». Роман выходил частями в его журнале «Русский Вестник». Издатель со ссылкой на цензуру вынуждал Достоевского снова и снова перерабатывать центральную главу «У Тихона», которая касалась центрального героя Ставрогина и содержала его «исповедь». Соблазном представлялось обольщение малолетней, на что в романе уже направляют слова Ставрогина к Шатову: «детей не я обижал» (10, 201 - «А старушонку эту черт убил, а не я.», говорит Раскольников, 6, 322). Лживы ли слова Ставрогина, и в каком смысле сказаны, осталось загадкой. Достоевский до последнего не знал, что глава никогда уже не войдет в роман. Незадолго до публикации последней части «Бесов» он был принужден окончательно и полностью отказаться от введения ее в ткань романа. Это катастрофа для автора.
Но поскольку построение целого произведения предполагает потусторонний центр, высший Логос, то глава «У Тихона», выйдя за рамки романа, лишь вдвинулась в эту глубь. Таким образом, она, хотя и отсутствует в романе, все же своеобразно присутствует. По художественной логике в произведениях Достоевского всегда присутствует и отсутствующее. Притом не будет игрой слов, если добавить: всегда отсутствует присутствующее.
Это некое «отсутствие» и есть та принципиальная незавершенность, недостижимость, которая знаменуется у Достоевского бесчисленными смягчениями («как бы», «как будто», «может быть», «почти» и т. п.), сверх того сомнениями, вопросами, и наконец непосредственным созданием «дистанции» к высказанному слову, ко всякому слову (даже если «дистанцирование» не высказавыается). Проведение в жизнь этого принципа приводит к такой структуре, которую проще всего уяснить на примере известной беседы Алеши и Ивана Карамазовых в трактире. Здесь имеется целый ряд диалогических уровней. Под реальным уровнем автор-читатель, развивается во всем романе мало заметный, но с точки зрения искусства важный и вполне реальный, уровень рассказчик-читатель (образ рассказчика Достоевский создает очень бережно).
Поведываемый рассказчиком читателю диалог между Иваном и Алешей содержит подчиненные диалогические уровни: Иван оказывается автором «диалога» Великого инквизитора с «Христом» в темнице. Иван по ходу дела дистанцируется от своего «героя» при вопросе Алеши что это: «прямо ли безбрежная фантазия или какая-нибудь ошибка старика, какое-нибудь невозможное qui pro quo». - «Но не все ли равно нам с тобою, что qui pro quo, что безбрежная фантазия? Тут дело в том только, что старику надо высказаться», - отвечает Иван (14, 228). «Диалог» оказывается монологом выжившего из ума старика.
Но по содержанию этот мнимый диалог есть весьма своеобразное критическое осмысление нереальным персонажем еще одного диалога, находящегося вне романа, но тем самым вбираемого в его структуру - а именно диалога искусителя со Христом в пустыне, описанного в Евангелии (причем и там никто не присутствовал, кроме двух его участников). Фантастика, но и выше фантастики, поскольку для Достоевского именно здесь скрывается реальность реальностей романа. По Достоевскому, вся мировая история сходится именно на этих трех вопросах: «В искушении диавола явились три колоссальные мировые идеи, и вот прошло 18 веков, а труднее, то есть мудренее, этих идей нет и их все еще не могут решить». (В. А. Алексееву, 07.06.1876, 29 кн. 2, С. 84). Значит при достижении уровня Евангелия, таинств, Церкви (на что порой указывают также своеобразные слова-сигналы), по замыслу роман прикасается ко всеохватывающей мировой истории, и более чем истории.
Если этот все-охват вкладывается в глубину романа как его подоплека, то он же стоит над романом, над историческим диалогом читатель-автор как вопрошание и ответы, даваемые отнюдь не автором, сознательно вводящим свое слово (роман) в такой своеобразный - не замыкающийся, а объемлющий - круг. Это действительно для творчества Достоевского как отображение его эсхатологического видения. Таково конкретное конкретное применение и проявление эсхатологического его восприятия. То, что здесь достаточно явно, в других произведениях воздействует скрыто. Поэтому Достоевский называет диалог Ставрогина с Шатовым в записных тетрадях к «Бесам» «Фантастическая страница» (11, 173, 177, 185) и рассказ «Сон смешного человека» определяется как «фантастический».
По всему творчеству Достоевского рассеяны отображающие эту подоплеку слова-сигналы, вроде слова «заяц». К образу Ставрогина по поводу «исповеди», которую Ставрогин вроде бы уже отпечатал (а на деле сама глава «У Тихона» не была напечатана до самой смерти ее автора!), но колебался в отношении ее распространения, в записных тетрадях сказано: «Дайте зайца, хохоча выходил, побледнел, выложил листы к распространению (.) Самоказнь» (11, 307). Мы видим только последнюю точку «самоказни» в романе: Ставрогин повесился прямо над порогом, за дверью.
В творчестве Достоевского мы имеем, таким образом, как бы со внутренней стороны объемного исторически-надисторического круга имманентизм, как адскую перспективу «монологизма», власти «князя мира сего», а с другой стороны, превосходящую монологизм в разомкнутом пространстве вечного диалога райскую, надвременную перспективу.
Имманентизм вызывает отвращение автора «Зимних заметок...» в образах Ваала и Вавилона, равно и у «подпольного человека» («муравейник», «хрустальный дворец», «курятник»).
Зеркальное отображение «богоубийства» Ставрогина: в его «исповеди» описано, как обесчещенная Матреша грозила ему «кулаченком» с порога в его комнату, а затем вышла «в крошечный чулан вроде курятника, рядом с другим местом. Странная мысль блеснула в моем уме (.) Разумеется, мелькнувшей мысли верить еще было нельзя; «но однако». » (11, 18). Матреша повесилась в то самое время, когда Ставрогин вышел в имманентизм, в анти-молитву, в антилитургию: «стал смотреть на крошечного красненького паучка на листке герани и забылся. Я все помню до последнего мнгновенья.» (11, 19) Память и забвение - сознание и потусторонность противопоставлены в двойственности этого «последнего мгновения» выхода в некий эсхатон.
Ставрогин в этой «мертвой тишине», где он «мог слышать писк каждой мушки», вернувшись из небытия («вдруг выхватил часы») положил ждать еще четверть часа, еще три минуты. Выясняется, что в такого рода забытьи присутствует дьявольское мнимое всеведение. Как только Матреша ушла: «Странная мысль блеснула в моем уме», но «верить еще было нельзя», а теперь, вглядываясь сквозь щель в чулан-курятник, он «припомнил», что в рассматривании «красного паучка», даже в самом «забытьи» была мысль о том, как он приподнимется на цыпочки и достанет глазом до щелки, чтобы увидеть ее висящей за незапирающейся дверью, которую однако он «отворить не хотел». Глубочайшее значение слов, заканчивающих эпизод: «всё хотелось совершенно удостовериться». Отказ от выхода в достоверность литургически-евхаристической реальности повязывает человека двойственностью, сомнением. Ярче всего это показано в беседе Ивана Крамазова с чертом.
«Достоверность» имманентизма в смерти, и стремление к ней смертоносно. Однако, на Кириллове в «Бесах» показано, что до воцарения смерти здесь может даже возникать подобие евхаристического сознания: «Я всему молюсь. Видите, паук ползет по стене, я смотрю на него и благодарен ему за то, что ползет». Это не Евхаристия Богочеловека, а в крайнем приближении -максимальное удаление от Него. Поэтому Ставрогин переспрашивает: «Богочеловек?» А Кириллов уточняет: «Человекобог, в этом разница.» Остановивший часы Кириллов верует в вечную жизнь, но «не в будущую вечную, а в здешнюю вечную». Как исихия Великого инквизитора, заявляющего: «Тихо умрут они, тихо угаснут во имя Твое и за гробом обрящут лишь смерть» (14, 236), так и у Кириллова царит сотериология угашения Духа: «время не предмет, а идея. Погаснет в уме» (10, 188189). «Я начну, и кончу, и дверь отворю. И спасу. Только это одно спасет всех людей и в следующем же поколении переродит физически», заявляет Кириллов (10, 472).
Здесь речь о «та эсхата», тех последних вещах, которые даны в Литургии: вечное во времени, всецелое преодоление времени и пространства, область чистейшей любви в самопожертвовании, спасение и преображение мира - но все это подано в зеркальном обращении.
Именно эти последние вещи, где «я» и «все» связаны концами, вводятся Достоевским в живой ход действия. Каждой из сторон, и каждой личности в отдельности принадлежит инициатива (область свободы). Отсюда многопричинность действия в романе и многоплановость произведений большого диалога. Отсюда: одна реальность содержится в другой. Здесь все в каждом, и каждый во всех. Более того, что видит человек, и как он видит - характеризует его самого (вполне согласно святоотеческому учению, см. «Душеполезные поучения Аввы Дорофея», глава девятая ). Случайностей не существует, ситуации возникают сообразно видению того или иного героя. События суть вызовы, обращенные ко всем. В них каждый и все выявляют свое видение (меняющееся, или же подтверждающее себя). Как «Я» и «все», личность и общество, каждый со своей стороны призваны к самопожертвованию, так и по ходу произведения в том же ключе каждый призван со своей стороны вступить во взаимодействие (совершает это или отрекается).
Герои своими действиями и, главное, своим видением открывают суть самого себя. «Мелькнувшая мысль», «неясная мысль» и т. д. имеют прямое отношение к этой динамике и, одновременно, к последним вещам. Промежуточный мир, действие романа развивается из принятия или отвержения помысла, выражающего видение. К примеру, после искусительной беседы с Алешей Иван неизбежно сперва напарывается на Смердякова, а потом уже, согласно все той же динамике, ему после другой встречи со Смердяковым в последней части романа открывается подлинный автор Великого инквизитора - сам чёрт, причем как давно присутствовавший в Ивановском имманентизме мышления. Вырвать Ивана из пленения смертоносной двойственности дьявольских помыслов может только Алеша, прошедший через Ивановский искус и уже реально воспринявший иное, новое видение - истину воскресения мертвых в самое тело свое. То, что было ложью-полуправдой в случае цитированных слов Раскольникова и Ставрогина - «не я», или в «Я знаю, что не я.» в лепечущих устах Ивана, чему следует страшная месть Смердякова (15, 59), это самое «не я» в устах Алеши гласит утвердительно «не ты!» как слово «на всю жизнь» (15, 40 - курсив Ф. М. Д.), и перерастает, наконец, в самую недвойственную правду иного порядка: «не ты убил». Но здесь уже действительное различение духов: к другим, дальнейшим мыслям Ивана Алеша применяет рассуждение духовное: «Это ты говоришь, а не он!» (15, 87).
Особое место занимает в этой связи мысленный образ «всего человечества» как социальная перспектива (Иван Карамазов: «геологический переворот»), как мечта (Версилов) или же как сон (Ставрогин). Человечество последних времен как отображение состояния своей души видит болеющий в остроге Раскольников в своих бредовых сновидениях. Там дело доходит до антропофагии. Временные рамки болезни: конец поста и Святая. На второй неделе после Святой -Раскольников «воскрес». За этим должен следовать «подвиг», «постепенное обновление человека», «постепенное перерождение» (6, 420-422). Падение ниц накрепко связано с этим: «вдруг что-то как бы подхватило его и как бы бросило к ее ногам» - к ногам Сони. Образы каторги непосредственно восходят к «Запискам из мертвого дома», которые выстроены внутренно с учетом церковных праздников и заканчиваются «воскресением из мертвых» и славой его: «Экая славная минута!» (4, 232). Здесь Достоевский описывает говение в конце Великого поста и падение ниц перед Чашей (4, 176-177; очевидно это происходило именно в Лазареву субботу, евангельское чтение которой столь значимо для Раскольникова).
Функция евангельского чтения отведена самому сну Ставрогина в главе «У Тихона». Ставрогин дистанцируется от своего описания сна («я не знаю, что мне именно снилось»). Анализ показывает, что Ставрогин видит себя в свете Крещения, Преображения, Воскресения. Однако, в специфике его восприятия реальность сна преломляется в образ «золотого века» первых времен еще безгрешного человечества. Обращенность вспять эстетизма застилает возможность обновленного видения, и соответствующая этому обращенность на себя (рефлексия), как тот пресловутый «волосок», закрывает Ставрогину путь к обновлению и воскресению в покаянии. «Волосок» здесь дан как «паучок», тот крошечный красный паучок, которого он во время своего предательского бездействия-преступления наблюдал. Иконографически он сроден пламенному херувиму, преграждающему путь в рай. «Волосок-паучек» перерастает в образ убитой Матреши, грозящей кулачком на пороге: адская вечность в свете «имманентизма». Ставрогин видит Матрешу «не наяву! Если бы, если бы это было настоящее видение!» «О, если б я когда-нибудь увидал ее наяву, хотя бы в галлюцинации!» (11, 22) Ставрогин сам вызывает этот образ в повторении дурной бесконечности.
Сон Ставрогина не был опубликован, и Достоевский возвращался к этой теме. Мечта Версилова в «Подростке» о человечестве, как будто вошедшем в совершенную любовь, но без Христа, завершается явлением Христа, который вопрошает: «Как вы могли забыть Его?» (13, 379). В отличие от ставрогинской первобытности «колыбели европейского человечества» (11, 21) - у Версилова «это был уже как бы последний день человечества» (13, 378), но все же это представления, подчиненные времени. Собственно надвременную и надпространственную литургически-евхаристическую перспективу той же темы Достоевский разработал в своем произведении «Сон смешного человека. Фантастический рассказ» (25, 104-119. Дневник писателя, 1877). Под покровом «утопии» и космического путешествия здесь подан именно неизреченный образ (с характерным дистанцированием от содержания) райского человечества, причем как пребывающего, т. е. Христа в таинствах. В ходе рассказа обнаруживается богослужебная структура утрени. В целом рассказ представляет собою образное преломление смысла Крещения.*
* Такой результат анализа неожиданно подтвердился после прочтения доклада об этом «Сне» в Музее Достоевского в Санкт-Петербурге в 1993 г. Неразрешенный вопрос о смысле указания Достоевским точной даты «сна-смерти-воскресения» разрешил директор музея Г. Украинский биографически: 3-е ноября день крещения Достоевского.
Такой результат анализа неожиданно подтвердился после прочтения доклада об этом «Сне» в Музее Достоевского в Санкт-Петербурге в 1993 г. Неразрешенный вопрос о смысле указания Достоевским точной даты «сна-смерти-воскресения» разрешил директор музея Г. Украинский биографически: 3-е ноября день крещения Достоевского.
За описанием «райского человечества», будь-то в свете «утопии», будь-то в свете «золотого века» кроется у Достоевского реальность измерений литургически-евхаристических - и вся его эсхатология покорена этому восприятию, хотя вводит он это в свое творчество не «грубо».
Как вездесущая литургичность есть жизнь, так конечная точка имманентизма - смерть. Имманентизм пронизан «ничто», в котором вездесущее уничтожение человека (убийство или самоубийство - противоположности, которые связаны концами). В «Преступлении и наказании» убийство процентщицы есть пере-ступание «порога», мнимое преодоление «волоска». Здесь разрабатывается внутренняя необходимость некоего actus purus, не содержащего ни малейшего себялюбия «чистого» деяния.
По идее этот чистейший «акт» - подобие святости самопожертвования, но скрывается-то в нем нечистый. Раскольникова тянет-влечет логика зачатка помысла, вошедшего в него, в святоотеческой литературе именуемого «прилогом». (К «Братьям Карамазовым» Достоевский позже запишет: «Прилог по Дамаскину» [15, 204 см. 205, 242] - в его библиотеке имелась брошюра преп. Иоанна Дамаскина «О восьми духах злобы», где детально объясняется «прилог» и что за ним следует. Л. Гроссман, Библиотека Достоевского, Одесса 1919). Хотя Раскольников ни на что не решается, постоянно все решается само. Убийца убывает - поднимая топор - «едва себя чувствуя, и почти без усилия, почти машинально»: «Силы его тут как бы не было». Зато: «как только он раз опустил топор, тут и родилась в нем сила» (6, 63). Постепенно снимаются покровы помыслов в первой части романа, и уже после совершившегося преступления, перед читателем наконец обнаженно предстает духовный источник такого призвания к уничтожению.
Суть «до» и «после» центрального деяния в романе открывается на глубочайшем его уровне, который вместе с тем стоит и над автором и читателем. Последнее слово об убийстве за которым нет никаких иных причин и мотиваций, это внутреннее «то эсхатон», автор вводит евангельским словом на фоне храма. После убийства Раскольникову «пришлось еще раз вполне очнуться» от удара кнута на самой середние Николаевского моста, здесь же он получает двугривенный «ради Христа», и в чистейшем воздухе способен разглядеть каждую деталь украшения купола собора - «одна беспокойная и не совсем ясная мысль занимала его теперь исключительно.
Он стоял и смотрел вдаль долго и пристально (...) случалось ему, может быть раз сто, останавливаться именно на этом же самом месте, пристально вглядываться в эту действительно великолепную панораму и каждый раз почти удивляться одному неясному и неразрешимому своему впечатлению. Необъяснимым холодом веяло на него всегда от этой великолепной панорамы; духом немым и глухим полна была для него эта пышная картина. Дивился он каждый раз своему угрюмому и загадочному впечатлению и откладывал разгадку его, не доверяя себе, в будущее» (6, 89-90). Будущее уже совершилось как убийство. Ощутив в руке двугривенный, Раскольников «разжал руку, пристально поглядел на монетку, размахнулся и бросил ее в воду (.) он как будто ножницами отрезал себя сам от всех и всего в эту минуту» (6, 90). Бросок в воду - анти-крещение, отвержение дара «ради Христа», подобен возвращению «билета» Иваном Карамазовым. Подтверждено вселение беса - «духа глухого и немого» (Мк 9, 25) - и время обрывается, наступает область беспамятства, потери себя.
Подбную эстетику «великолепной панорамы», леденящей, вложили в сердце Ставрогину как сентиментальнейший Степан Трофимович Верховенский «неопределенным ощущением той вековечной, священной тоски» европейского язычества («золотого века»), так и деловая мать Ставрогина: «пристально следящий за ним ее взгляд он всегда как-то болезненно ощущал на себе» (10, 35). Она «много раз неприметно и пристально приглядывалась к Nicolas, что-то соображая и разгадывая.» (10, 38). Ввиду отсутствия главы «У Тихона» не раскрыто, но зато еще острее воспринимается таинственность Ставрогина, когда он «забылся» - замирание его, неподвижность, бездыханность, превращение в «бездушную восковую фигуру», летаргия, которая заканчивается тем, что он вдруг очнувшись, «как бы упорно и любопытно» всматривается «в какой-то поразивший его предмет в углу комнаты, хотя там ничего не было ни нового ни особенного» (10, 182).
Не иначе видит черта Иван Карамазов: «взгляд его пристально направился в одну точку», он сидел и «упорно приглядывался к какому-то предмету у противоположной стены на диване» (15, 69, 70). Из наточенной смертоносной концентрации мысли такого рода рождается топор Раскольникова, нож Рогожина, или - в ином варианте - перочинный ножик Ставрогина. Пусть тайна появлений Матреши, как и образ Матреши остались за пределами романа - при таком «отсутствии», все же нравственное измерение этого образа многократно преломляется в иных образах присутствием своим в романе. Последняя и высшая конкретность этого всепроницающего нравственного измерения есть Логос мира, литургическое «то эсхатон», которое «искони веков» и, вместе с тем, «во веки веков».
В упоении Иван Карамазов мучительными картинками искушает Алешу («Картинки прелестные» 14, 220). Но в отстраненности его осуждающей эстетики уже содержится суд: В ужасно натопленной комнате Смердякова лежит книга преп. Исаака Сирина (15, 61), где речь об аде, как мучениях совести от греха против любви, и муки эти страшнее всяких мук страха (Иже во Святых отца нашего Аввы Исаака Сириянина Слова подвижнические, Слово 18. Книга имелась в библиотеке Достоевского.). Старец Зосима развивает эту мысль («Об аде и адском огне» 14, 292-293). Тем же в «Бесах» определяется превосходящий выше всякого страха страх («бледнеет»), а в главе «У Тихона» -«самоказнь» через вызывание образа Матреши.
В записных тетрадях к «Бесам» говорится от имени Тихона: «Узнает душа, что каждый за всё ответчик», что душа будет «блуждать и увидит весь свой грех, да не так, как теперь, а весь (.) и потребует сама казни, и станет искать ее, а ей отвечают любовью - и в этом ад ее. Сознание любви неисполненной должно быть всего ужаснее, и в этом ад и есть». Человек увидит, что «всё, решительно всё на свете в земной его жизни от одного только него и зависело! Всё, что случилось и об чем даже не ведал, могло быть по примеру Христову одною лишь любовью его полно». (11, 190 -курсив Ф.М.Д.).
На Литургии, в евхаристическом каноне приносится благодарение о «явленных и неявленных благодеяниих, бывших на нас». И в таком восприятии, где личностное начало ставит всё в зависимость от одного себя, но в связи с целым, присутствует такой суд, который не приходит извне. В творчестве Достоевского этот суд обращен наравне как к героям, так и к читателям и самому автору. В конце концов, этот суд обретается не только на самой глубине произведения, но и пронизывает его, безмерно превосходя произведение в прикосновении к «та эсхата», соприкасаясь с последними вещами реальности.
Ярчайшая картина литургического прикосновения к Чаше жизни в этом ключе дана в «Братьях Карамазовых» главой «Кана Галилейская». Здесь собраны воедино нити романа в сердце его центрального героя - Алеши. Достоевский имел в виду эту книгу романа как центральную, и данную главу как сердце самого романа. Не случайно выбрал он это указание на таинство брака, теснейшим образом связанное с Литургией. Тема женщины, наравне с темой отца (плотского и духовного), чрезвычайно важна для Алеши. Достоевский связывает воскрешение души героев и воскресение из мертвых. Вместе с тем, женская тема присутствует в перспективе чистоты Пресвятой Богородицы и Ее отношения к Сыну. Алеше следует выйти в мир и вступить в брак по завету духовного отца. Вокруг круговерть жадности и плотоядности блудных сынов. Но смертоносное жало сидит и в сердце Алеши. Изъятие его - тема романа.
Это изъятие совершается при осуществлении слов пасхального канона, акафиста Пресвятой Богородицы, евангельского чтения, положенного во время таинства брака и многих других церковных измерений, в частности богослужения о «блудном сыне». Если и для всех братьев действительна притча о блудном сыне, то евангельское чтение особо прилагается к Димитрию. Апостольское чтение со словами «все мне позволено, но не все полезно» - тема Ивана. Алеша Карамазов осуществляет тему скорби псалма 136 - «На реках вавилонских . Аще забуду тебе, Иерусалиме», занимающую особое место в романе и в богослужении «о блудном сыне» (Об этом детальнее в моей статье «Все позволено...», Возвращение, № 3, 1993 СПб, С. 59-64).
Скорбь о святыне спасает не только Алешу от блуда плотского и духовного, но и Грушеньку, вводит их обоих в ту область, где уже «не женятся и не посягают» (см. выше о значении этой мысли для Достоевского). Конкретно, когда Ракитин с грязными намеками предлагает выпить за «райские двери» (Акафист Пресв. Богородице, Икос 4), то Алеша, выпивший было, тут же отставляет бокал и отказывается приобщаться. Здесь прямая противоположность Ивановской «Карамазовской силе» и сладострастному «кубок об пол» (14, 240), а также Чаше Великого инквизитора, на которой написано «Тайна» (14, 235). Отрекается по примеру Алеши и Грушенька, уже сидящая у него на коленях. Следует переворот ситуации - открытие новых измерений, связанных со старцем Зосимой.
Возвратившийся в скит Алеша по-новому стоит на пороге «райских дверей», теперь уже пасхального канона (Песнь 6-я, на которую намекается в беседе Ивана с чёртом образом пророка Ионы в связи с дурной бесконечностью, 15, 78). Евангелие, читаемое над гробом старца Зосимы, уносит Алешу в литургическую реальность Каны Галилейской, превосходящую границы пространства и времени, где описывается «веселие вечное» при очевидных ассоциациях с пасхальными песнопениями - в записных тетрадях: «Пием вино новое (чудодеемое)» (Канон Пасхи, Песни 1 и 3). Явившийся в свете чтения Евангелия Зосима говорит: «Веселимся (.) пьем вино новое, вино радости новой, великой» и т. д. Удивление Алеши - «Как.. И он здесь? Да ведь он во гробе. Но он и здесь.» (14, 327) - совпадает с другим тропарем Пасхи: «Во гробе плотски, во аде же с душею яко Бог, в раи же с разбойником, и на престоле был еси, Христе, со Отцем и Духом, вся исполняяй Неописанный».
Этот тропарь читается священником на каждой Литургии, на Великом входе, когда Чаша поставляется на престол, чему позже следует возношение ее в анафоре. Алеша вступает в это преодоление границ пространства и времени, и сила воскресения вос-торгает его: «заснувший» на коленях, он стоит на ногах, «тремя твердыми скорыми шагами» приближается ко гробу. Совсем иное он принял удостоверение, чем то, которое искал, поднимаясь на цыпочки и вглядываясь в темень чуланчика Ставрогин. И если Ставрогин некогда каменел на пороге, бледнея, то Алеша теперь, круто повернувшись, выходит, не задерживаясь на нем. Широта открывающаяся ему в небосводе прямо противоположна заостренности смертоносных орудий. Тема исихии - здесь не угасание, а сияние: «Звездная слава» (15, 238). Вечная, тихая всеобъемлющая тайна Богообщения открывается Алеше вместе с ширью «небесного купола»: «Тишина земная как бы сливалась с небесною, тайна земная соприкасалась со звездною.».
Тишина эта сливается с таинством Евхаристии, где воздвигается Чаша с возгласом анафоры «Твоя от Твоих. о всех и за вся»: «Алеша стоял, смотрел и вдруг как подкошенный повергся на землю».
Если он «целует» и «обнимает» эту землю, то речь именно о целости исцеления, именуемой «спасением» (бесконечно далеким от привычно-узкого эгоистического смысла), а клятвы его «любить во веки веков» эту землю говорят о целостно-преображенном во Христе мироздании, о тех все-объятиях в духе стихир Пасхи, которые Достоевский имеет в виду: «Воскресения день и просветимся торжеством, и друг друга обымем, рцем братие, и ненавидящим нас простим вся воскресением» (стихира на «И ныне», см. 15, 231; 26, 224 и т. п.).
Упоминаемое отсутствие «стыда» в слезах «исступления» также не случайно - оно знаменует молитвенный «эк-стасис», то райское бытие, которое не знает греховной рефлексии. Нет рефлексии и в чистом прощении: «Простить хотелось ему всех и за всё и просить прощения, о! Не себе, а за всех, за всё и за вся».
Только чтение вслух оригинала может передать звучание богослужебной мелодии этого текста с возгласами-повторами, вторящими Литургии и центральному «Твоя от Твоих. о всех и за вся. во веки веков».
Воцарение Христа прямо противоположно абстрактным идеям, и Достоевский оттеняет это внутренним противопоставлением через сопоставление: «Какая-то как бы идея воцарялась в уме его -и уже на всю жизнь, и на веки веков». Речь о том «царственном уме» человека, который способен принять в себя Духа Святого и руководиться Им (по св. Иоанну Дамаскину). Бесконечно далеко от чувственной сентиментальности это вос-торжение Алеши, которому соответствует схождение Духа Святого, Царя Небесного: «явно и как бы осязательно, как что-то твердое и незыблемое, как этот свод небесный, сходило в душу его». Наконец: «"Кто-то посетил мою душу в тот час", говорил он потом с твердою верой в слова свои.» («Бог посетил меня», говорил в воспоминаниях Зосимы «таинственный посетитель» 14, 282).
Данное художественное описание образует «мистагогию», выводит далеко за рамки романа, вводя нас в литургически-евхаристическую связь, где по причастии священнослужителя от Чаши произносятся слова серафима в видении пророка Исаии: «Се прикоснуся устам твоим, и отымет беззакония твоя, и грехи твоя очистит» (Ис 6, 7). Pater Seraphicus, так именует Иван Зосиму вполне оправданно. Прикосновение Алеши к вечности совершается: «Как будто нити от всех этих бесчисленных миров Божиих сошлись разом в душе его, и она вся трепетала, „соприкасаясь мирам иным"». Так же в главе «Кана Галилейская» сходятся нити «мироздания» данного литературного произведения.
«Пал он на землю слабым юношей, а встал твердым на всю жизнь бойцом» (14, 328). Три дня - и Алеша выходит на свое послушание «в миру».
Царство, посещение Духом Святым, схождение Духа, воскресение - все эти темы пронизывают творчество Достоевского как истинная христианская перспектива подвига, преодоление века безверия и «князя мира сего». Творчество это внутренно восходит к эсхатологическому измерению Божественной Литургии.
БОГОСЛОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ "ЭСХАТОЛОГИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ ЦЕРКВИ "
Москва, г/к "Даниловский " 14-17 ноября 2005 г.




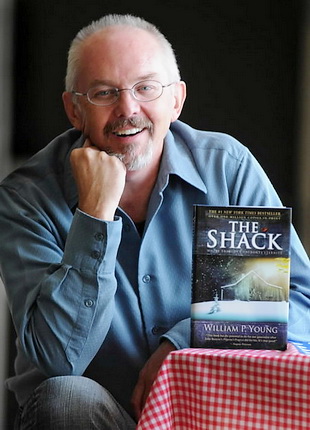
Комментарии
Пока нет комментариев. Будьте первым!