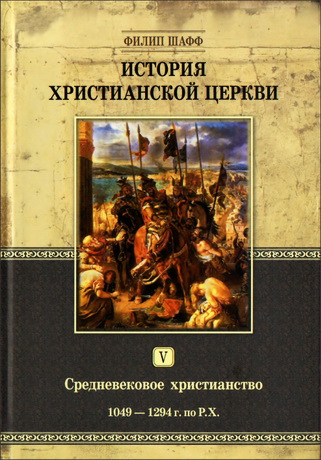
Кралечкин - Ненадежное бытие - Хайдеггер и модернизм
Основные персонажи и концепты нарративов модерна — субъект, автономия, рациональность, природа, техника и т. п. — появляются в качестве обслуживающих инстанций, серво-механизмов этого спекулятивного генеза, смехотворность которого (почему, собственно, модерн возникает именно тогда-то и тогда-то, в дату, которой место, к примеру, в «Тысяче плато», где таких дат симптоматично слишком много — 1730, 1874, 1914?), на самом деле лишь воспроизводит базовую проблему модерна: необходимость обосновать фундаментальную независимость и отличимость того, что самой своей маркировкой указывает на включенность во внешний ряд и даже, возможно, заурядность (а потому модерн можно лишить всякой «событийности» и говорить о модерне едва ли не в любом обществе и в любую эпоху, на любом уровне — от формирования Солнечной системы до реноваций в пределах одного города). Возможно, что избыток модерна по отношению к логике ре-марки является опять же лишь формальным: рефлексия иного как нового, формально абсолютно правильная и обоснованная, кажется, не имеет никакого значения, ведь всякое иное—это новое, но раз так, его новизна не составляет никакого отличия (difference в смысле Г. Бейтсона), а потому и иное возникнуть, то есть маркироваться, тоже не в состоянии, если эта логика прокручивается мгновенно, как и положено логике: как только иное рефлексирует в новое, само это новое, сама его претензия, тут же неизбежно дезавуируется и гасит само это иное, поскольку, если каждое иное — это новое, то это лишь такое новое, в котором нет ничего нового, а потому и в ином, формально говоря, нет ничего иного, ведь оно иное лишь формально. Модерн, соответственно, указывает на стопорение, зависание этой, ранее продуктивной, логики: субъектом тут становится не столько субстанция, сколько само это «новое», требующее самообоснования. Модерн — эта гигантская история suspension of disbelief (разумеется, раньше, до модерна, никто всерьез не верил, что новое можно порождать формальными фокусами маркирования) — становится стоп-машиной своей собственной ре-марки, машиной, которая начинает крутиться вхолостую, так что выскочить из ее движения уже не получится.
Соответственно, негативный, катастрофичный, апокалипсический характер модерна с самого начала становится его тоном, выполняясь то как фигура, то как фон, и в то же время смешивая само это различие. Катастрофа модерна (то есть автономное, имманентное, внутреннее крушение модерна как претензии на автономию, начавшееся едва ли не с начала—и наверняка с Канта) оказывается в этом смысле катастрофой незавершения или липкости, инфицирования, с которым можно бороться разными методами, составляющими, однако, собственно программу модерна, то есть сама его рефлексивная структура наверняка воспроизводит себя в любой попытке оторваться от модерна или как-то преодолеть его за счет различных ступеней и приставок—«пост», «мета» и т. д., — которые должны отделиться, если придать критике модерна или прощанию с ним достаточное ускорение. Будучи первоначально фигурой автономии (или даже ее единственной эпохой), модерн парадоксальным, но вполне логичным образом превратился в фигуру ненужного наследия, рухляди и одновременно сверхценного объекта, от которого нельзя отказаться именно потому, что сам отказ его же и воспроизводит, но в то же время нельзя и сохранить или пустить в дело, поскольку такое сохранение или эксплуатация его уничтожают. Из «своего» или претензии на автономию он стал «Чужим», с которым приходится мириться, поскольку с ним невозможно распрощаться. Все это может быть описано также и на психологическом или драматическом языке. Например, стратегия Ницше, которую можно понять как попытку разведения траура и меланхолии, сталкивается с типичным техническим затруднением: желание инициировать «откат» от меланхолической/ модернистской позиции, озабоченной исключительно своим величием (а потому не способной действительно расстаться с собой, поскольку тем самым это величие тоже было бы утрачено), помечается как «терапия», требующая принципиально иного обихода времени или распорядка дня (в частности, концепции «вечного возвращения»), что, однако, перезапускает типично модернистскую проблематику «нового времени», как будто модерн стал вирусом, успешно мутирующим в самых разных условиях, рефлексивно проникающим за любые экраны и любой санитарный кордон, который ставится у него на пути, — просто потому, что такие кордоны являются его собственной техникой, его средствами локомоции. Не помогают в таком случае ни прививки, ни пастеризация, ни герилья-тактики антипрививочников (например, Лиотара): мы остаемся в «зависании» модерна, во взвеси его рефлексивноинфекционного аппарата, в котором каждая попытка поставить под вопрос его догматику (например, Латуром) восстанавливается в виде практики более успешного, более реального, хотя, возможно, не такого чистого, как считалось раньше, модерна. Возможно, нам остается лишь смириться с таким положением дел и заняться чем-то другим (что составляет еще один, сегодня принимаемый по умолчанию, вариант выхода из модерна—догматического, с опорой на время как стихию, которая гарантирует, рано или поздно, устаревание модерна как такового).
Место Хайдеггера в мелодраме модерна определяется как одновременно типичное и исключительное. Конечно, модерн, современность становится у Хайдеггера составляющей явного, декларативного дискурса в гораздо большей степени, чем у Канта (как теоретика «Просвещения»), но именно потому, что модерн растягивается, охватывает собой как всю метафизику в целом, так и гипермодернистский, гиперкритический проект Ницше, которого, по мнению Хайдеггера, все еще недостаточно. Растяжение и расползание модерна означает такой его срыв (как сорванного мероприятия), который, требуя выполнения его собственных правил, приводит к опровержению самой возможности их выполнения, что, в свою очередь, указывает на позитивную программу расставания с модерном или программу «нового начала». Это, однако, тут же запускает игру ре-марки модерна, так что вся постхайдег-геровская философия оказывается затянутой растяжением и расползанием модерна: будучи не в силах начать самостоятельное движение, она полагается на различные «марки» его рефлексии (постмодернизм, гипермодерность, метамодернизм и т. д.). «Типичность» Хайдеггера означает в этом смысле типичность зависания модерна: его откровенный антимодернизм, расширяющий сам концепт модерна до предела, оборачивается как искусственностью этого концепта (грешащего такой генерализацией, что она, по сути, не оставляет места для гуманитарных наук, как и для философии), так и вполне логичной невозможностью найти собственно «предел» — модерн оказывается не только липким, но и «резиновым», своего рода муляжом модерна, который Хайдеггер фабрикует как куклу для битья. Критика может двигаться только в режиме совершенствования таких кукол, не замечая того, что сам рефлексивный способ их производства — путем обнаружения все более граничных и базовых условий модерна, которые объявляются преодолимыми или указывающими по ту его сторону, — так или иначе воспроизводит топос раскрытия догматичности, весомости, застревания модерна в самом себе. Горизонтом этой критики оказывается либо какая-нибудь «слабая мысль» (Ваттимо), либо новая непосредственность, то есть догматичность и позитивность (в том числе наук), отменяемая, однако, самим перформансом критики (деструкции, деконструкции и т. д.). Растягивание модерна до степени неправдоподобия определяет удобство континентальной философии, которая превращает Хайдеггера в универсальную точку отсчета, в позицию Анти-Канта, Анти-Платона, Анти-Декарта, Анти-Гегеля и т. д., в которой драма модерна превращается в бесконечный сериал, который, конечно, можно перестать смотреть, но разве что волевым усилием — или же положившись на стихийное «устаревание» самой континентальной философии вместе с модерном в целом («само пройдет»). Исключительность Хайдеггера является лишь продолжением его типичности: попросту говоря, после Хайдеггера нам не нужно никакой другой гиперкритики модерна, если относиться к последнему можно лишь двояко—зависать, пребывать в его мелодраме или же расставаться с ним, но лишь стихийно и догматически (полагаясь на время, которое лечит, заставляя что-то устаревать).
Дмитрий Кралечкин - Ненадежное бытие. Хайдеггер и модернизм
(Библиотека журнала «Логос»)
Москва : Издательство Института Гайдара, 2020.—352 с.
ISBN 978-5-93255-577-4
Дмитрий Кралечкин - Ненадежное бытие. Хайдеггер и модернизм - Содержание
- Введение
- Дрейф и руинанция. Жюльен
- Бытие и магия. Симондон
- Заговор против реальности. Жоли
- Дела и вещи. Гёббельс и Энгельс
- Фактуальность и фатуальность. Мейясу
- Заключение. Heidegger Foolproof

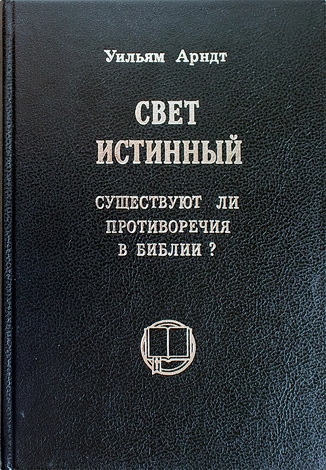


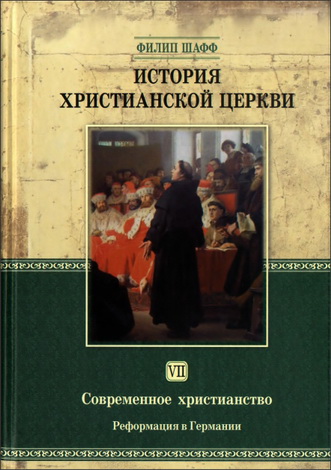
Комментарии
Пока нет комментариев. Будьте первым!