Опубликовано впервые в интернете на сайте Эсхатос
© ESXATOS
Нет надежды, что полностью эта книга будет переведена - публикуем то, что есть
Райт Н. Т. - Новый взгляд на Павла - перевод Эсхатос
N. T. WRIGHT
PAUL In Fresh Perspective
Fortress Press
Minneapolis
First Fortress Press edition 2005
© Перевод на русский язык:
https://esxatos.com: Евгений Марчук, Стоик
Запрещается копирование текста на других сайтах
Чарли Мулю посвящается
Николас Томас Райт - Новый взгляд на Павла - Содержание
Предисловие
Часть I ТЕМЫ
1 Мир Павла, наследие Павла
1. Три мира Павла
2. Споры о богословском наследии Павла: прежние, новые и другие перспективы
2 Творение и завет
1. Творение и завет в Ветхом Завете
2. Павел: три ключевых текста
(i) Кол 1:15–20
(ii) 1 Кор 15
(iii) Рим 1–11
3. Зло и благодать: состояние дел и решение вопроса
4. Выводы: Иисус в контексте творения и завета
3 Мессия и апокалиптика
1. Введение
2. Иисус как Мессия
3. Апокалиптика Павла
4 Евангелие и империя
1. Введение
2. Основы имперской идеологии кесаря
3. Иудейская критика языческой империи
4. Антиимперское богословие Павла
5. Выводы
Часть II СТРУКТУРЫ
5 Переосмысление Бога
1. Введение
2. Монотеизм: иудейские корни
3. Монотеизм и христология
4. Монотеизм и Дух
5. Библейские истоки, цели язычества и практический труд
6. Выводы
6 Преобразование Божьего народа
1. Введение
2. Избрание: иудейские взгляды на Божий народ
3. Избрание как собрание вокруг Иисуса
4. Избрание как преобразование Духом
5. Новое определение избрания на основании Писания
6. Выводы
7 Пересмотр Божьего будущего
1. Введение
2. Иудейская эсхатология в первом веке
3. Эсхатология, пересмотренная в контексте служения Иисуса
4. Эсхатология, пересмотренная в контексте служения Духа
5. Эсхатология в контексте
8 Иисус, Павел и дело Церкви
1. Введение
2. Иисус и Павел
3. Труд апостола
а. Служитель, апостол, отделенный
б. Новые подходы к практической работе
4. Выводы: Павел и задачи Церкви
Примечания
Библиография
Указатели
Николас Томас Райт - Новый взгляд на Павла - Часть I ТЕМЫ (перевод Е. Марчук)
1 Мир Павла, наследие Павла
1. Три мира Павла
В предисловии я говорил о том, что изучение текстов Павла сродни поиску различных путей на гору. Лишь слегка изменив эту метафору, мы приходим к первоначальному наблюдению, которое переносит нас в мир Павла – главную тему этой вводной главы. По сути, мы можем говорить о мирах во множественном числе; чтение Павловых текстов особенно интересно потому, что апостол шагал по меньшей мере в трех мирах, а значит его слова следует слышать в трех разных акустических камерах. Звук в какой-то из них может и не быть слышим в других, хотя Павел хотел, чтобы они резонировали одновременно.
Возвращаясь к метафоре с горой, я представляю наследие Павла в виде холма на северо-западе Пеннинских гор, на который я любил взбираться в детстве. Поднявшись на вершину со стороны Йоркшира, можно было встать правой ногой в Йоркшире, левой – в Ланкашире, а протянув руку вперед, – прикоснуться к древней и многострадальной земли Уэстморленда. Точно так же Павел жил в трех (по меньшей мере) мирах. Только помня о каждом из них мы сможем осмыслить контуры его писаний.
Возвращаясь к метафоре с горой, я представляю наследие Павла в виде холма на северо-западе Пеннинских гор, на который я любил взбираться в детстве. Поднявшись на вершину со стороны Йоркшира, можно было встать правой ногой в Йоркшире, левой – в Ланкашире, а протянув руку вперед, – прикоснуться к древней и многострадальной земли Уэстморленда. Точно так же Павел жил в трех (по меньшей мере) мирах. Только помня о каждом из них мы сможем осмыслить контуры его писаний.
Первым миром, путешествуя по которому апостол поднялся на свою гору, был, естественно, иудаизм. За последние десятилетия иудаизм эпохи Второго храма был изучен лучше, чем за прошедшее тысячелетие, и поток исследований продолжает литься на свитки, фарисеев, ранних раввинов и тому подобное, не говоря уж о важных археологических находках. Тем не менее, из беспорядочной массы информации возникает достаточно согласованная картина – подобно тому, как альпинист способен определить основные потоки и тропы, не обязательно имея возможность видеть все их переплетения. Иудаизм периода Второго храма был многогранной и оживленной комбинацией того, что мы теперь называем (хотя люди в то время не признавали такого разделения) религией, верой, культурой и политикой. Но даже конфликтующие элементы мировоззрения сталкивались по поводу одних и тех же вопросов: что значит быть Божьим народом, быть преданным Торе, держаться иудейской самоидентификации перед угрозой захватнической языческой культуры и (превыше всего, по мнению некоторых) ждать наступления Божьего Царства, предсказанного пророками «будущего века», искупления Израиля в надежде получить свою долю будущего оправдания и благословения, когда этот день настанет. Таков был мир, из которого Павел вышел и в котором оставался, хотя и говорил такое, что никто из обитателей того мира не смел сказать – то, что многим из них казалось шокирующим и даже разрушительным. Представьте, как мнительный житель Йоркшира мог бы подозревать нашего скалолаза в том, что тот пытается тайно подменить белую розу на флаге красной.
Вторым миром была греческая, или эллинистическая культура, которая во времена Павла проникла в каждый уголок восточного Средиземноморья и гораздо дальше. С дней Александра Великого – за триста с лишним лет до Павла – греческий стал не только вторым языком для всех, как в наши дни английский, но и парадигмой для мышления во многих местах. Опять же, в разновидностях эллинизма первого века недостатка не было, но культура и философия, а также (когда мы говорим о Павле) стиль риторики греческого мира были мощными и вездесущими. Нужно прочесть всего несколько страниц из трудов Эпиктета, более молодого современника Павла, чтобы почувствовать: радикально расходясь во взглядах, они пользовались одним и тем же языком и стилем ведения дискуссии. Иногда может показаться, что они жили на одной и той же улице. На улицах эллинистического дискурса Павел чувствует себя как дома, хотя явственно ощущает необходимость того, как он выражается, чтобы «пленить всякое помышление в послушание Мессии».
Он продуктивно использует лексику и образы языческих моралистов, но непременно наполняет их свежим содержанием. И это не просто приспособленчество к чуждой культуре или игра за обе команды. Именно потому, что в иудейской традиции единый Бог Авраама был творцом всей земли, и все люди были созданы по Его образу, апостол, как некоторые его современники (к примеру, автор «Премудрости Соломона»), смог заложить прочное основание внутри иудейского мировоззрения, с которого обращался к остальным обитателям – более того, правителям, – всего мира. Именно правители мира дней Павла и мир, который они стремились создавать, и были третьей сферой, где обитал Павел – в моей иллюстрации она соответствует третьему графству, в которое может проникнуть скалолаз, твердо стоя на обеих ногах в двух других. Павел, к удивлению некоторых и тогда и сейчас, был римским гражданином, и даже если мы придерживаемся довольно сдержанных взглядов на историчность книги Деяний апостолов, он, по всей видимости, не раз пользовался привилегиями своего положения. Но, как и в иудейском и эллинистическом мирах, он не был бездумным обитателем огромной империи кесаря. Его позиционирование себя по отношению к Римской империи с ее идеологий и разрастающимся культом поклонения императору – тема, которая в наши дни активно обсуждается, и поэтому я посвящу ей всю четвертую главу.
Формируя третий угол в треугольнике мира Павла, римский контекст очень тесно взаимосвязан с первыми двумя. В иудаизме существовала традиция критики языческой империи, простирающаяся вглубь истории почти на тысячелетие – почином ей послужил Египет и история исхода. Для иудея первого века было совсем не сложно рассказывать старые предания об угнетении и освобождении, представляя нового актера в роли главного злодея. Когда я впервые попал на празднование Пурима (это было в западном Иерусалиме в 1989 году), пригласившие меня евреи были смущены тем, насколько очевидным был современный эквивалент Амана и его сыновей в сознании зрителей разворачивающейся драмы книги Есфирь. Яркие истории предполагают свою собственную обобщающую герменевтику. И когда Павел поверил в то, что Бог Израиля наконец послал Своего Помазанника быть справедливым господином мира, столкновение миров и перерождение образов стало неизбежным, что привело к новым богословским, а также политическим вопросам и перспективам. В своем отношении к претензиям Рима Павел твердо держался рамок иудейской традиции.
В то же самое время имперская идеология и культы Рима в вопросах философии и идеологии питались главным образом за счет эллинистического мира. Мы ни в коем случае не должны упустить из виду тот факт, что подавляющему большинству обитателей империи – и солидной части жителей столицы в том числе – греческий служил родным, а нередко и единственным языком общения. Павел жил, трудился, мыслил и писал в рамках сложного и запутанного мира. Хотя фраза «для всех я сделался всем» теперь часто воспринимается как готовность подставлять паруса всем ветрам, Павел выражался в более функциональном смысле. Ему было вверено иудейское послание для всего мира, и для донесения послания в определенной степени требовалось воплощение (способами, которые и тогда вызывали, и сейчас вызывают у некоторых сильное недоумение) идеи о том, что единый истинный Бог Израиля простирается до всех уголков языческого мира. Павел оставался убежденным монотеистом и, как мы рассмотрим ниже, в полной мере исследовал и разрабатывал эту традицию.
Формируя третий угол в треугольнике мира Павла, римский контекст очень тесно взаимосвязан с первыми двумя. В иудаизме существовала традиция критики языческой империи, простирающаяся вглубь истории почти на тысячелетие – почином ей послужил Египет и история исхода. Для иудея первого века было совсем не сложно рассказывать старые предания об угнетении и освобождении, представляя нового актера в роли главного злодея. Когда я впервые попал на празднование Пурима (это было в западном Иерусалиме в 1989 году), пригласившие меня евреи были смущены тем, насколько очевидным был современный эквивалент Амана и его сыновей в сознании зрителей разворачивающейся драмы книги Есфирь. Яркие истории предполагают свою собственную обобщающую герменевтику. И когда Павел поверил в то, что Бог Израиля наконец послал Своего Помазанника быть справедливым господином мира, столкновение миров и перерождение образов стало неизбежным, что привело к новым богословским, а также политическим вопросам и перспективам. В своем отношении к претензиям Рима Павел твердо держался рамок иудейской традиции.
В то же самое время имперская идеология и культы Рима в вопросах философии и идеологии питались главным образом за счет эллинистического мира. Мы ни в коем случае не должны упустить из виду тот факт, что подавляющему большинству обитателей империи – и солидной части жителей столицы в том числе – греческий служил родным, а нередко и единственным языком общения. Павел жил, трудился, мыслил и писал в рамках сложного и запутанного мира. Хотя фраза «для всех я сделался всем» теперь часто воспринимается как готовность подставлять паруса всем ветрам, Павел выражался в более функциональном смысле. Ему было вверено иудейское послание для всего мира, и для донесения послания в определенной степени требовалось воплощение (способами, которые и тогда вызывали, и сейчас вызывают у некоторых сильное недоумение) идеи о том, что единый истинный Бог Израиля простирается до всех уголков языческого мира. Павел оставался убежденным монотеистом и, как мы рассмотрим ниже, в полной мере исследовал и разрабатывал эту традицию.
Вместе с тем это был пугающе пересмотренный монотеизм. К трем мирам, формирующих контекст служения Павла, мы должны присовокупить четвертый, уже существующий к моменту его обращения, – мир, который представлял собой, как можно предположить, столь же возмутительное положение дел. Павел принадлежал к семье Мессии, к народу Божьему, который он сам называл экклезией – «вызванными». Это название в некоторых (не во всех) смыслах соответствовало и общинам иудейских синагог, и гражданским собраниям в языческом мире. Павел тратил немало усилий, с разных углов зрения доказывая, что, хотя этот новый народ состоял из истинных потомков Авраама, хотя он объединял людей, которые вели обычную жизнь в языческом мире, и хотя он существовал в условиях империи кесаря, он имел иную природу, отличную от этих обстоятельств. Она не определялась ни этническим происхождением, ни социальным положением; это не было ни клубом, ни культом, ни гильдией, хотя посторонние часто воспринимали новое образование именно в таком смысле. Церковь, собрание Иисуса-Мессии, формировала (согласно мышлению Павла) свой собственный мир, который уникальным образом взаимодействовал с тремя остальными мирами, во многих смыслах черпая из них свою динамику, что приносило апостолу так много проблем. Но об этом чуть позже. Для Павла «быть в Мессии», принадлежать к Телу Мессии, означало принятие самосознания, укорененного в иудаизме, обитающего в эллинистическом мире и противопоставляющего себя претензиям кесаря на мировое владычество. Вместе с тем, оно не было простой комбинацией аспектов этих трех миров. Павел настаивал бы, что четвертый мир уникален в своем роде, и эта уникальность опирается на саму личность Иисуса и его объединяющую роль в качестве Мессии.
Итак, до сих пор мы рассматривали мир Павла. Как должно быть очевидным, этот мир целесообразно описывать на языке его множественных накладывающихся друг на друга, иногда конфликтующих рассказов: рассказ о Боге и Израиле из иудейской традиции; из греко-римского мира – языческие истории об их богах и миропонимании, имплицитные рассказы, вокруг которых вращалось самосознание отдельных язычников; и в особенности великие повествования империи – и широкомасштабные, которые мы встречаем у Вергилия, Ливия и других авторов, и более скромные, местного значения, рассказы. Точно так же этот мир можно описывать на языке его символов: тех, которые использовались в контексте иудаизма, Храма, Торы, священной земли и семьи; многочисленных существующих в рамках язычества символов нации, царства, религии и культуры; стоящих особняком символов Рима – от монет и арок до храмов и воинской мощи, – которые свидетельствовали о могуществе империи. К ним можно добавить характерные обычаи этих пересекающихся культур – и жизненные уклады, которые выражали и воплощали личные возвышенные устремления, а также служили для банального выживания, и порядки, возникшие в результате конкретных социальных или этических учений. Наконец, стоит задуматься над ответами, которые можно было бы ожидать в контексте всех этих культур, на великие вопросы, служащие основанием для любого мировоззрения: кто мы? где мы? что не так? каково решение? сколько времени? В другом своем труде я приводил анализ этих четырех аспектов мировоззрения (рассказ, символ, обычаи и вопросы), и хотя в этих лекциях мы не можем подробно разбирать их в приложении к мышлению Павла, важно помнить о них как о системе координат, на которую мы время от времени будем ссылаться.
На данный момент я хочу сказать чуть больше о первом из этих уровней. В последние годы немало внимания посвящается нарративному осмыслению наследия Павла, и я считаю это одним из ключевых элементов в исследованиях, которые стали известны под названием «нового взгляда» на Павла. Нынешний интерес можно отследить по меньшей мере к докторской диссертации Ричарда Хейза. Исследовав имплицитную сюжетную линию, втиснутую в несколько чрезвычайно глубокомысленных фрагментов Послания галатам, Хейз утверждал, что Павел опирался на более пространный рассказ (подвергнув его сжатию), в котором решающую роль играли смерть и воскресение Иисуса (и, в частности, Его «верность»). Но как только нарративного джина выпустили из бутылки в мир, глаза которому открыла современная теория литературы, назад его не загнать.
А потому теперь все аспекты текстов Павла исследуются на предмет наличия имплицитных и эксплицитных сюжетных линий. Невзирая на желания и усилия отдельных личностей, эти исследования нельзя отбрасывать ни как вчитывание в тексты Павла чуждых ему идей, ни как простую постмодернистскую прихоть. Данный подход определенно не сводит мышление Павла, как некоторые смутно намекали, к миру «рассказа» в противопоставлении «учению» с одной стороны, или реальной жизни – с другой. Возьмем очевидный пример: еврейская литература, начиная с библейских текстов и до наших дней, насквозь пропитана ключевыми историями – такими как рассказы об Аврааме, исходе, пленении и возвращении. А значит даже небольшая аллюзия в еврейском тексте на один из этих рассказов – вполне четкое указание на необходимость воспринимать хотя бы косвенное присутствие на заднем плане всего повествования. Встречая аллюзии на те же истории у Павла, мы просто обязаны проследить за ними, чтобы обнаружить повествовательную действительность, которая для него была само собой разумеющейся. В отношении иудаизма эпохи Второго храма мы должны противостоять опасливому минимализму, который угрожает свести науку к боеготовому молчанию. Нет смысла стоять, дрожа, на той части берега, которую еще не накрыла приливная волна нарративного прочтения. Единственный путь к безопасности, каким бы парадоксальным он ни казался, – нырять и плыть.
Обращение к принципам повествования является одним из наиболее важных достижений революционных свершений «нового взгляда», которые зашли дальше, чем сам Сандерс говорил или (как мне кажется) даже думал. Я намерен настаивать, что это достижение следует рассматривать и как этап развития «нового взгляда», и как центральный (а не иллюстративный или периферийный) элемент паулинистики. Вместе с тем, крайне важно подчеркнуть, что это вопрос исключительно исторический. Понимание роли рассказов в древнем мире и того, как малейшая аллюзия могла вызвать и вызывала к жизни весь исторический нарратив, включая повествование, которое автор и слушатели считали своей средой обитания, – очень важный инструмент в исследованиях. Здесь я хочу сослаться на потрясающую новую книгу о Нероне принстонского профессора Эдварда Чемплина, в которой он, параллельно Занкеру и другим, весьма подробно излагает то, как многочисленные и разнообразные мифы древней Греции и Рима действовали на мышление обычных людей, так что даже косвенная отсылка к Энею, Агамемнону, Оресту, Эдипу и другим персонажам мгновенно вызывала в воображении аудитории (например, когда Нерон выходил на сцену в амплуа того или иного мифического героя) всю сюжетную линию, которую нам приходится восстанавливать с трудом, шаг за шагом, а простые люди того времени знали ее безо всяких усилий.
Обращение к принципам повествования является одним из наиболее важных достижений революционных свершений «нового взгляда», которые зашли дальше, чем сам Сандерс говорил или (как мне кажется) даже думал. Я намерен настаивать, что это достижение следует рассматривать и как этап развития «нового взгляда», и как центральный (а не иллюстративный или периферийный) элемент паулинистики. Вместе с тем, крайне важно подчеркнуть, что это вопрос исключительно исторический. Понимание роли рассказов в древнем мире и того, как малейшая аллюзия могла вызвать и вызывала к жизни весь исторический нарратив, включая повествование, которое автор и слушатели считали своей средой обитания, – очень важный инструмент в исследованиях. Здесь я хочу сослаться на потрясающую новую книгу о Нероне принстонского профессора Эдварда Чемплина, в которой он, параллельно Занкеру и другим, весьма подробно излагает то, как многочисленные и разнообразные мифы древней Греции и Рима действовали на мышление обычных людей, так что даже косвенная отсылка к Энею, Агамемнону, Оресту, Эдипу и другим персонажам мгновенно вызывала в воображении аудитории (например, когда Нерон выходил на сцену в амплуа того или иного мифического героя) всю сюжетную линию, которую нам приходится восстанавливать с трудом, шаг за шагом, а простые люди того времени знали ее безо всяких усилий.
Как пишет Чемплин: «Лексика мифа была настолько привычной для повседневной жизни людей всех сословий – и высоких, и низких, что она служила самой твердой валютой общественного сознания. Она служила простым, универсальным языком, который был понятен любому человеку». То, как это действовало в жизни самого Нерона и какое влияние имело на его претензии, оказывает очень важное влияние на исследования раннего христианства во многих смыслах, не в последнюю очередь затрагивая, естественно, книгу Откровение. Но для наших нынешних целей я буду настаивать, что имплицитные «рассказы», к которым Павел обращается в Рим 4 и Гал 3, где очевидно подразумевается все повествование об Аврааме как об отце истинного народа Божьего (хотя вы никогда не услышите ничего подобного от критиков «нового взгляда», как и от самого Сандерса), и в не столь уж очевидных текстах – как, например, цитата из Пс 115 в 2 Кор 4:13 – были совершенно понятны Павлу и его первым читателям. Даже небольшие вариации фразы могут серьезно изменить смысл высказывания. Помню, как я слушал выступление политика, который говорил о работе полиции, время от времени упоминая «север Ирландии», и понимал, что у него есть серьезные причины не произносить вслух «Северная Ирландия», не говоря уж об «Ольстере». И Павел не просто приводит аллюзии на некие широко известные рассказы. Некоторые критики повествовательного прочтения Павла реагируют так, словно нарратив – это некий художественный узор вокруг основных богословских тем, которые нельзя воспринимать как повествование.
Я намерен утверждать, что весь смысл Павлова корпуса заключается именно в том, чтобы показать: с приходом, смертью и воскресением Иисуса Мессии началась новая глава в том повествовании, в котором он сам жил. Понимание этого повествования и того, сколь радикально новым явлением является в нем эта глава, дает возможность уяснить все, что Павел говорит, в том числе о вопросах оправдания и закона, которые становились предметом раздора в битвах приверженцев и противников «взгляда». Отказ допустить повествовательную критику в эти битвы сродни отказу залить бензин в бак, поскольку все и так знают: чтобы ехать на автомобиле, нужны руль и четыре колеса.
Конечно, мы продолжим спорить о том, что служило доминантным нарративом, и как его понимал Павел. Но как я и другие показали, великие рассказы об Аврааме, исходе, Давиде (этот, естественно, всегда вызывает особое сопротивление) и о плене и возвращении из плена (этот, естественно, даже больше предыдущего) не просто создают яркий повествовательный занавес, с которого можно произвольно брать мотивы для создания откликающейся типологии. В гораздо более глубоком смысле они являются частями единой сюжетной линией повествования (при наличии типологических отсылок, она к ним не сводится), в рамках которого, как он был убежден, протекала жизнь Павла и его современников. Как Ливий повествовал о прежнем величии Рима, стараясь перевести взгляд современников на новый мир Августа; как кумраниты (здесь даже больше подобия) рассказывали о пророчествах Израиля, заявляя, что обещания возвращения из плена свершаются именно в их общине; как автор 4 Ездр предложил иное прочтение книги Даниила, параллельно с намеками, звучащими у Иосифа Флавия, чтобы заявить, что долгая апокалиптическая драма ныне достигла развязки, так и Павел припоминает великие истории Бога, Израиля и мира, потому что его взгляд на спасение (включая оправдание и все остальное) – это не неисторическое построение о том, как люди вступают в правильные отношения с Богом.
Скорее в нем звучит рассказ о том, как Бог Авраама наконец исполнил Свои обещания посредством апокалиптической смерти и воскресения Своего возлюбленного Сына. Как мы увидим в главе 3, то, что некоторые называют «апокалиптикой» (ее правильное понимание определяется контекстом первого века), находится в центре богословия Павла. Она не обрубает преемственность, исполнение обещаний в рамках Павлового богословия завета, а скорее дополняет и исполняет его, не давая ему скатиться, как это происходит в реформатской традиции и некоторых версиях «нового взгляда», в такой позитивизм по отношению к преемственности, в котором не остается места Павловому ударению на крестную смерть Мессии и последующей критике всякой человеческой гордыни и любой системы.
Нарративный поворот в паулинистике, таким образом, является, по-моему, одним из самых значимых достижений в мире, открытом «новым взглядом». Он вполне соответствует прочтению Павлова использования Ветхого Завета, заново открытого Хейзом и другими, в котором (как во многих иудейских и неиудейских – что убедительно доказал Чемплин – текстах) легкий намек мог воссоздать в памяти целый мир. Конечно, это один из моментов, в котором данное развитие «нового взгляда» совершенно противоречит экзегетическим предложениям самого Сандерса. Он предположил, что Павел цитировал Ветхий Завет более или менее произвольно, не обращая внимания на контекст, – он якобы пролистал свою умственную симфонию в поисках библейского подтверждения для своего богословия оправдания верой и обнаружил два стиха, в которых слова «праведность» и «вера» стояли рядом (речь идет о Быт 15 и Авв 2). Трудно спорить с подобной решимостью не видеть того, что на самом деле присутствует в этих текстах. Часто главным аргументом в экзегезе того или иного текста может служить готовность читать его в «нарративных» очках, благодаря которым проступит трехмерная реальность, в отличие от плоской и расплывчатой картинки, которая получается без них. В подобных случаях мы должны быть более уверенными, чем это иногда бывает, в имплицитной структуре «гипотеза-обоснование» различных спорных моментов.
Привлечение внимания на основообразующую нарративную структуру мышления Павла, таким образом, не сводится к распознаванию имплицитных рассказов в его текстах и извлечению скрытого смысла для детального исследования. Происходит нечто куда более глубокое, более революционное, когда мы беремся за раскопки в этих имплицитных историях, и я подозреваю, что именно сопротивлению этому элементу и вызывает в настоящее время сопротивление нарративной критике вообще и нарастающее противодействие так называемому «новому взгляду» в частности. Главная мысль по поводу нарративов в мире иудаизма эпохи Второго храма (и мышлении Павла) заключается не просто в том, что людям нравилось пересказывать рассказы в качестве иллюстраций или библейских подтверждений того или иного духовного опыта или доктрины, а в том, что верующие иудеи эпохи Второго храма считали себя актерами на сцене нарратива, происходящего в жизни. Если выразиться иначе, они не были просто рассказчиками, которые использовали свой фольклор (в их случае, это была Библия), чтобы проиллюстрировать радости и печали, испытания и победы повседневной жизни. Их рассказы функционировали типологически, то есть предлагали пример, который можно было наложить в качестве шаблона на события и истории из другого периода времени, не имеющие исторической преемственности, чтобы связать два разных периода воедино. Однако главной функцией рассказов было напоминание о ранних и, как они надеялись, характерных моментов в едином, более широком повествовании, которое тянулось с сотворения мира и призыва Авраама до их дней и, как они надеялись, простиралось в будущее.
Нарративный поворот в паулинистике, таким образом, является, по-моему, одним из самых значимых достижений в мире, открытом «новым взглядом». Он вполне соответствует прочтению Павлова использования Ветхого Завета, заново открытого Хейзом и другими, в котором (как во многих иудейских и неиудейских – что убедительно доказал Чемплин – текстах) легкий намек мог воссоздать в памяти целый мир. Конечно, это один из моментов, в котором данное развитие «нового взгляда» совершенно противоречит экзегетическим предложениям самого Сандерса. Он предположил, что Павел цитировал Ветхий Завет более или менее произвольно, не обращая внимания на контекст, – он якобы пролистал свою умственную симфонию в поисках библейского подтверждения для своего богословия оправдания верой и обнаружил два стиха, в которых слова «праведность» и «вера» стояли рядом (речь идет о Быт 15 и Авв 2). Трудно спорить с подобной решимостью не видеть того, что на самом деле присутствует в этих текстах. Часто главным аргументом в экзегезе того или иного текста может служить готовность читать его в «нарративных» очках, благодаря которым проступит трехмерная реальность, в отличие от плоской и расплывчатой картинки, которая получается без них. В подобных случаях мы должны быть более уверенными, чем это иногда бывает, в имплицитной структуре «гипотеза-обоснование» различных спорных моментов.
Привлечение внимания на основообразующую нарративную структуру мышления Павла, таким образом, не сводится к распознаванию имплицитных рассказов в его текстах и извлечению скрытого смысла для детального исследования. Происходит нечто куда более глубокое, более революционное, когда мы беремся за раскопки в этих имплицитных историях, и я подозреваю, что именно сопротивлению этому элементу и вызывает в настоящее время сопротивление нарративной критике вообще и нарастающее противодействие так называемому «новому взгляду» в частности. Главная мысль по поводу нарративов в мире иудаизма эпохи Второго храма (и мышлении Павла) заключается не просто в том, что людям нравилось пересказывать рассказы в качестве иллюстраций или библейских подтверждений того или иного духовного опыта или доктрины, а в том, что верующие иудеи эпохи Второго храма считали себя актерами на сцене нарратива, происходящего в жизни. Если выразиться иначе, они не были просто рассказчиками, которые использовали свой фольклор (в их случае, это была Библия), чтобы проиллюстрировать радости и печали, испытания и победы повседневной жизни. Их рассказы функционировали типологически, то есть предлагали пример, который можно было наложить в качестве шаблона на события и истории из другого периода времени, не имеющие исторической преемственности, чтобы связать два разных периода воедино. Однако главной функцией рассказов было напоминание о ранних и, как они надеялись, характерных моментов в едином, более широком повествовании, которое тянулось с сотворения мира и призыва Авраама до их дней и, как они надеялись, простиралось в будущее.
Если мне можно рискнуть, озвучив две до абсурда разные аналогии, люди первого века были не столько в положении одинокой юной девушки, которая, читая «Джейн Эйр», мечтает о повторении поворотов сюжета книги в ее жизни, сколько походили на игрока в крикет, который вот-вот должен выйти с битой в матче, предыдущая история и прежние эпизоды которой подготовили игру к свежим действиям, что должны привести ее к логичному завершению. Можно без труда продемонстрировать, например, что о различных прочтениях Рим 4 можно судить на основании того, как воспринимается рассказ об Аврааме: он служит простым библейским доказательством учения об оправдании верой, или чем-то большим? В следующей главе я собираюсь доказать, что Павел думает обо всей истории в Быт 15, и в нескольких последних стихах показывает: история, которая началась тогда, теперь достигла решающей стадии – есть все предпосылки для победы в матче. Можно также отметить эффект, который возымели события 70 г. и 135 г. – они намертво остановили имплицитный нарратив, в котором жили иудеи эпохи Второго храма, чем создали новую форму нормативного иудаизма, которому было суждено найти выражение не в столько в нарративе, сколько в деисторизированном объяснении закона. Но во времена Павла повествовательная составляющая действовала на все сто. Он, как и многие его иудейские современники, с нетерпением хотели узнать, куда именно повернул сюжет, и какую роль они должны играть в нем.
Это в свою очередь основывается – и я считаю это основополагающим принципом всего мировоззрения Павла – на уверенности, что единый истинный Бог является творцом, владыкой и грядущим судьей всего мира. Монотеизм в иудейском стиле (творение, владычество и суд), который Павел, переосмыслив, утверждает, создает именно такой смысл основообразующего нарратива – историчного, хотя и незаконченного, рассказа о творении и завете, который отдельные рассказы (например, об Аврааме и исходе) дополняют и усиливают, но выходящего за рамки простой типологии в непосредственную историческую преемственность. По сути, в этом и был смысл большей части литературы, написанной в плену и в послепленный период. Бог не оставил Свой народ, отправив его в Вавилон. Литература времени Второго храма обеспокоена именно тем, чтобы заново пересказать рассказ, показывая, как сюжет развивается и, возможно, достигает кульминации. Если мы не признаем этот фактор и с самого начала не включим его в свое понимание Павла и его иудейского окружения, у нас не будет и малейшего шанса уяснить основы его мышления. И если, как это часто происходило, мы заменим его доминирующие нарративы выдержками из других традиций и культур, мы напросимся на герменевтические проблемы.
Это в свою очередь основывается – и я считаю это основополагающим принципом всего мировоззрения Павла – на уверенности, что единый истинный Бог является творцом, владыкой и грядущим судьей всего мира. Монотеизм в иудейском стиле (творение, владычество и суд), который Павел, переосмыслив, утверждает, создает именно такой смысл основообразующего нарратива – историчного, хотя и незаконченного, рассказа о творении и завете, который отдельные рассказы (например, об Аврааме и исходе) дополняют и усиливают, но выходящего за рамки простой типологии в непосредственную историческую преемственность. По сути, в этом и был смысл большей части литературы, написанной в плену и в послепленный период. Бог не оставил Свой народ, отправив его в Вавилон. Литература времени Второго храма обеспокоена именно тем, чтобы заново пересказать рассказ, показывая, как сюжет развивается и, возможно, достигает кульминации. Если мы не признаем этот фактор и с самого начала не включим его в свое понимание Павла и его иудейского окружения, у нас не будет и малейшего шанса уяснить основы его мышления. И если, как это часто происходило, мы заменим его доминирующие нарративы выдержками из других традиций и культур, мы напросимся на герменевтические проблемы.
Именно этот элемент поможет нам и по-новому изложить «новый взгляд», и отразить атаки ставшей стандартной критики «взгляда». Есть нечто забавное в том, что ни Э. Сандерс, ни Джеймс Данн, два ведущих проповедника так называемого «нового взгляда», не развили нарративное понимание корпуса Павла, которое предложили Хейз и другие, включая меня. Об этом чуть позже – в частности, во второй главе, когда мы будем рассматривать творение и завет в качестве главных интегрированных в мышление Павла тем, доказывая его взгляд на спасение не как вне-историчное спасение от мира, а как транс-историчное искупление мира. В этой точке единый рассказ, начавшийся с сотворения мира и движущийся вперед через завет, достигает, по нашему мнению и мнению Павла, своего исполнения. Я хочу сказать, что в нарративном прочтении Павла важно не столько наличие имплицитных рассказов в его текстах (что трудно отрицать), сколько то, с какими рассказами нам приходится иметь дело, и какую роль они играют и в корпусе Павла, и в иудаизме. По сути, мы могли бы даже утверждать, что тип рассказов меняется в прямой зависимости от предполагаемого содержания, но это также следует оставить для иного случая.
Исполнение завета, вылившееся в заключение нового завета и новое творение, достигнуто, по мнению Павла, смертью и воскресением Иисуса. В третьей главе я собираюсь утверждать, что Павел понимал эти события и мессиански (Христос у Павла обозначает «Мессию»), и апокалиптически. Что в свою очередь указывает – как и следует ожидать и в мессианском иудаизме, и в апокалиптическом иудаизме – на противостояние евангелия Иисуса и евангелия кесаря; это и станет темой четвертой главы. Вторая, третья и четвертая главы, таким образом, будут посвящены анализу центральных тем доминантного имплицитного рассказа, или по крайней мере одного из доминантных имплицитных рассказов – иудаизма Второго храма, – и мы покажем, как Павел изменил их, превратив в свой собственный рассказ. Это и было сутью его труда, когда он, движимый радостной вестью Иисуса и (как он бы добавил) силой Духа, провозглашал иудейского Мессию в мире, который греки учили думать, а Рим заставлял в страхе подчиняться.
2. Споры о богословском наследии Павла: взгляды прежние, новые, иные
Вопрос наследия Павла принципиально сложнее вопроса мира, в котором он жил, но большая часть этих сложностей выходит за пределы и этой книги, и моей компетенции. Как и очень многие специалисты по Новому Завету, я плохо знаком с экзегезой Павловых текстов всех авторов, за исключением нескольких отцов Церкви и реформаторов. В Средние века, а также в восемнадцатый и девятнадцатый века многим было что сказать о Павле, но я не читал их труды. Кроме того, сегодня есть опасность увлечься научной интерпретацией современного имперского мира ввиду того, что центр научного богословия сместился из Германии, который был там, когда я начинал работу над докторской диссертацией тридцать лет тому назад, в США. Потенциально это утверждение может ввести в заблуждение, поскольку много работы все еще делается в Европе, не говоря уж о широком спектре трудов из стран третьего мира, особенно из Африки. Прежнее господство немецких ученых, которое, как становится очевидным при ретроспективном взгляде, было движимо безотлагательными нуждами Веймарской республики, нацисткого периода и послевоенного восстановления, должно предупредить нас об опасности цепляния вагонов за локомотив научных кругов. Отсюда и возникают впечатляющие имплицитные вопросы и нарративы о любом современном обществе, которое противопоставляет себя остальным, особенно, если это общество занимает положение непререкаемого владычества. Но нельзя быть в двух местах в одно и то же время, а потому, признавая и оплакивая ограниченность наших взглядов, мы должны делать все как можно лучше, доверясь прекрасной фразе Киплинга, что есть время рисовать «какой ты видишь эту Землю, – Ему, велевшему ей быть!»
То, «как я вижу» Павла, конечно же, сильно обусловлено, как и вся современная западная библеистика, дискуссиями о его трудах в Европе и Северной Америке за последние двести лет. Живя в эпоху постмодернизма, мы можем раздражаться по поводу своей рабской привязанности к Просвещению, но выбраться на свободу возможно, лишь бросив вызов поработителю. Моисею пришлось иметь дело с фараоном, а не с правителем другой страны. Именно из эпохи Просвещения происходят главные темы обсуждения Павла, которые распадаются на четыре категории: история, богословие, экзегеза и релевантность.
Эти категории часто перемешивали, но по сути между ними можно провести четкую разделительную черту. Одно дело – определить место Павла в истории и попытаться понять его социо-культурное окружение и религиозную составляющую (как его личный опыт, так и то, что он стремился насаждать) и их связь с другими движениями его времени. И совсем другое дело (хотя, естественно, пересекающееся с предыдущим) – попытаться описать модель его мировоззрения и богословия, очертить контуры его высказываний о Боге и мире, о зле и решении проблемы зла, о том, что значит быть человеком и как можно быть человеком в более полном, или более истинном смысле. Таковы постоянно требующие ответа богословские вопросы в любой традиции, хотя, как ни удивительно, большинство людей не осознают этого факта. А ведь вдобавок к описанию мировоззрения следует уточнить, как конкретные исторические обстоятельства вызывали у Павла различные, но взаимосвязанные выражения его богословия. История и богословие в любом мировоззрении, которое опирается на иудаизм, обречены влиять друг на друга, но это не взаимозаменяемые понятия. Обе дисциплины питаются от экзегезы, третьей, совсем иной сферы деятельности, и, в свою очередь, питают ее; экзегезу я считаю и началом, и завершением богословской задачи.
История, богословие и экзегеза всегда делаются – не только иногда, и не только проповедниками – пусть с прикрытой, но оглядкой на результат, который возникнет в мире самого исследователя. Те, кто считает Павла назойливым, противоречащим самому себе невротиком, перескакивающим с одной темы на другую, столь же рьяно хотят убедить своих слушателей, что они должны видеть апостола таким же (чтобы, например, они могли бодренько отбросить этическое учение Павла), как и те, кто считает каждое слово апостола исходящим непосредственно из уст Божьих. Нейтралитет невозможен. Принцип неопределенности Гейзенберга, согласно которому акт наблюдения за объектом меняет сам объект наблюдения, что по определению делает точные измерения невозможными, проник в постмодернистскую теорию критики и начал буравить тоненькой булавкой замковые стены имперского объективизма. Как я утверждал в другом труде, единственный способ двигаться вперед с этой точки состоит в принятии крепкого критического реализма, в рамках которого возникает историческая и богословская эпистемология – отодвинутая как можно дальше от воскрешенного позитивизма, предлагаемого в одних кругах, и восторженного субъективизма, проталкиваемого в других. А эффективность этого реализма зависит от силы рассказов, которые он озвучивает.
Невозможность нейтралитета в паулинистике легко обозначить в пределах двадцатого века. Альберт Швейцер неслучайно рассматривал раннее христианство в свете иудейской апокалиптики, или, по крайней мере, ницшеанского понимания оной. Неслучайно Рудольф Бультман подхватил хайдеггерский экзистенциализм именно тогда, как он это сделал, и неслучайно он читал Павла в свете именно этой философии. Неслучайно У.Д. Дэвис написал свою переломную книгу «Павел и раввинистический иудаизм» в тот самый момент, когда начали вслух говорить о нацистском холокосте, а Европа стала отворачиваться от неоязычества, породившего этот кошмар, и задаваться вопросом, не было ли столь отрицательное восприятие иудаизма ужасной ошибкой. Неслучайно, для того же времени, швед-лютеранин Кристер Стендаль бросил вызов доминирующей немецкой лютеранской традиции в своей знаменитой статье «Павел и интроспективная совесть Запада», а Эрнст Кеземан поддержал ее, озвучив предостережение, что заменить «историю-спасение» оправданием – значит последовать по пути, избранному немецкими христианами, которые поддержали Гитлера.
Подразумеваемый моральный водораздел двадцатого века (дескать, изучите идеи, которые питали Гитлера, и сторонитесь даже малейшего их подобия) тогда и возник, и продолжает возникать, когда бы ни заходила речь об иудаизме и Павле. В паулинистике продолжаются те же самые споры, например в непреклонном отстаивании Дж. Луи Мартином того, что некоторые называют «апокалиптикой», перед тем, что некоторые называют «заветом»; и стоит только упомянуть слово «суперсессионизм», как в памяти всплывают трубы Освенцима. Совсем неслучайно, что в 70-х годах в США Э.П. Сандерс а) говорил об иудаизме и богословии Павла в категории «образцов религии», б) защищал иудаизм от обвинений в том, что в нем был один конкретный образец религии, в) предлагал гипотезу, что Павел не так уж сильно расходился с иудаизмом, и что существующая дистанция возникла скорее в результате личного опыта, чем последовательного богословского осмысления принципиальных основ. Неслучайно этот взгляд ракетой взлетел в Америке и многих частях Британии, а в Германии лишь потрещал, как отсыревшая шутиха; однако это не значит, что в Америке следует принимать законы, запрещающие все современные фейерверки, и ограничиваться старыми фильмами об экзегетических пиротехнических средствах из шестнадцатого века. Естественно, сам по себе неопуританизм – явление, усвоенное из культуры.
Не свободны от контекстуальных и культурных вопросов и нынешние приливы энтузиазма. Неслучайно Ричард Хейз стал первопроходцем и в нарративном подходе к Павлу, и в свежем понимании того, как апостол использовал Ветхий Завет, после многих лет вдыхания постлиберального и церковного воздуха Йельского университета. Неслучайно Троэлс Энгберг-Педерсен из Копенгагена энергично проталкивал новое прочтение Павла, которое лишь слегка опиралось на традиционные иудейские или христианские представления, а основной его вес ложился на языческую философию первого века. Определенно неслучайно то, что Ричард Хорсли предложил новаторское политическое прочтение Павла из университета в Бостоне, где считается аксиомой, что современная монолитная американская империя если и не является источником всякого зла, то во всяком случае является одним из главных его проводников. И, повторимся, неслучайно некоторые стараются отмести новое прочтение как простую левацкую прихоть. Наконец, неслучайно подавляющее большинство христиан по всему миру в наши дни читают Павла в блаженном неведении всех этих движений и контр-движений.
Не свободны от контекстуальных и культурных вопросов и нынешние приливы энтузиазма. Неслучайно Ричард Хейз стал первопроходцем и в нарративном подходе к Павлу, и в свежем понимании того, как апостол использовал Ветхий Завет, после многих лет вдыхания постлиберального и церковного воздуха Йельского университета. Неслучайно Троэлс Энгберг-Педерсен из Копенгагена энергично проталкивал новое прочтение Павла, которое лишь слегка опиралось на традиционные иудейские или христианские представления, а основной его вес ложился на языческую философию первого века. Определенно неслучайно то, что Ричард Хорсли предложил новаторское политическое прочтение Павла из университета в Бостоне, где считается аксиомой, что современная монолитная американская империя если и не является источником всякого зла, то во всяком случае является одним из главных его проводников. И, повторимся, неслучайно некоторые стараются отмести новое прочтение как простую левацкую прихоть. Наконец, неслучайно подавляющее большинство христиан по всему миру в наши дни читают Павла в блаженном неведении всех этих движений и контр-движений.
Находятся ли они поэтому в лучшем положении? Ни в коем случае. Лишь начав с предположения, что нам требуется безупречно чистая объективность, мы приходим к выводу, что эта серия «неслучайностей» сводит предыдущие исследования к бесполезной куче слов. Тот факт, что читателей этой книги поджидают всякого рода «неслучайности» (если мне будет позволено так выразиться), не значит, что в них нет никакой ценности. Я не явлюсь ни детерминистом, ни нигилистом. Тот факт, что мы можем осмысленно вычленить все эти сдвиги мышления в культуре, происходящие за последние двести лет, можно даже воспринять как доказательство того, что милосердное Провидение так направляло дела мироздания, чтобы свежий свет постоянно лился на Писания, хотя в этом и есть риск детерминизма иного рода.
Я склонен настаивать на трех построениях. Во-первых, есть такое понятие как тексты; сколько бы мы их не анализировали, они постоянно ставят перед нами новые задачи, и корпус Павла имеет особенно внушительный послужной список в этом смысле. Во-вторых, есть такое явление как свежее и убедительное прочтение текстов; новая пара глаз с новой мотивацией смотрит на знакомые слова, но видит незнакомые истины, и тогда (этот момент нельзя недооценить) принимается тестировать их – притом не только на тех, кто разделяет культурные и религиозные предрасположенности читателя, но и на тех, кто их не разделяет. Вынос научных исследований на публику – это элемент стремления к просвещению (невзирая на опасность банального столкновения) гетто, замаскированного под мир. И, в-третьих, я верю в таинственную, непредсказуемую и обычно сокрытую работу Святого Духа. Было бы нелепо исключить этот фактор из дискуссии о Павле; это как если бы кто-то взялся обсуждать сонаты Бетховена, исключая возможность существования фортепиано. Даже если кто-то не может сам играть на пианино, он должен признать, что в обсуждении музыки пианист имеет преимущество.
Я склонен настаивать на трех построениях. Во-первых, есть такое понятие как тексты; сколько бы мы их не анализировали, они постоянно ставят перед нами новые задачи, и корпус Павла имеет особенно внушительный послужной список в этом смысле. Во-вторых, есть такое явление как свежее и убедительное прочтение текстов; новая пара глаз с новой мотивацией смотрит на знакомые слова, но видит незнакомые истины, и тогда (этот момент нельзя недооценить) принимается тестировать их – притом не только на тех, кто разделяет культурные и религиозные предрасположенности читателя, но и на тех, кто их не разделяет. Вынос научных исследований на публику – это элемент стремления к просвещению (невзирая на опасность банального столкновения) гетто, замаскированного под мир. И, в-третьих, я верю в таинственную, непредсказуемую и обычно сокрытую работу Святого Духа. Было бы нелепо исключить этот фактор из дискуссии о Павле; это как если бы кто-то взялся обсуждать сонаты Бетховена, исключая возможность существования фортепиано. Даже если кто-то не может сам играть на пианино, он должен признать, что в обсуждении музыки пианист имеет преимущество.
Тот факт, что мы все живем в культурных контекстах, и что некоторые идеи воспринимаются в определенных месте и времени лучше, чем в других, не может служить причиной для уныния или замыкания в своих приватных мирках. Напротив, отсутствие необходимости добиваться невозможной объективности должно вызывать облегчение. Мы можем довольствоваться, с одной стороны, честным признанием своей отправной точки и, с другой стороны, неумолимой необходимости публичного, а не просто приватного, дискурса. Экзегезе нужны как Ван Гоги, так и Рембрандты; возможно также свои Пикассо и Трейси Эмины. Даже Голлум оказался полезным спутником по дороге к Темной Башне. Нельзя сказать, что нет различий между хорошей экзегезой и плохой, хорошей историей и плохой, хорошим богословием и плохим. Мы просто признаем, что эти различия не так просто очертить, как нам обычно кажется, и одновременно доказывать свои взгляды настолько убедительно, как только можем, и охотно признавать, что они могут быть не только неадекватными (с этим вообще никто не спорит), но в определенном смысле приводить к заблуждению. Говоря это, я снимаю шляпу перед Эрнстом Кеземаном, который в предисловии к своему важнейшему труду заявил, что, достигнув пределов, для него установленных, он признает условность своих взглядов и трудов, а потому с готовностью освобождает путь для других. Когда я первый раз прочел эти слова, я решил, что он струхнул и решил отступить перед реальным вызовом. Теперь же вижу, что он принимал куда более великий вызов.
Но если наши убеждения таким образом становятся относительными, то настало самое время задуматься над «незыблемыми истинами» научных исследований, которые проросли в наше время из совершенно иной эпохи. Возможно, их существование обусловлено не столько наличием логичной аргументации, сколько приверженностью к традиции (и страхом, что тебя сочтут не очень ученым, если ты посмеешь бросить вызов этой традиции). Возьмем, к примеру, широко распространенное мнение все еще обычное для определенных кругов, что не только Ефесянам, но и Колоссянам написаны не самим Павлом, хотя и могут содержать материал, изначально принадлежащий ему.
Есть, конечно же, много интересных утверждений, которые можно было бы сделать на этот счет. Но наши подозрения должны усиливаться ввиду того факта, что данный вывод возник в то время, когда преобладающие позиции в богословии занимало немецкое экзистенциалистское лютеранство, для которого любая экклезиология за исключением сугубо функциональной, любой взгляд на иудаизм за исключением сугубо отрицательного, любой взгляд на Иисуса Христа за исключением довольно приземленной христологии и любой взгляд на творение за исключением бартианского «отрицания» вызывали глубокое подозрение. Ложное, как мне кажется, противопоставление «либо-либо» – оправдание/церковь, спасение/творение – нависало над более мелкими аргументами (которые в любом случае всегда неубедительны ввиду небольшой текстуальной основы) из стиля. Ярко выраженные стилистические различия между первым и вторым посланиями Коринфянам гораздо отчетливее, чем, скажем, между посланиями Римлянам и Ефесянам, но никто по этой причине не спорит, что одно из них написано не Павлом. В частности, предположение, что «высокая христология» обязана подразумевать более позднего автора, исключающее Павла, было привнесено в текст, а не обнаружена в нем.
И суждение, которое в последнее время получило широкое распространение (особенно в Северной Америке), что Ефесянам и Колоссянам – вторичны, ибо переходят от конфронтации с Римской империей к коллаборационизму с ней же, откровенно абсурдно. Во многих трудах по «новому взгляду» важные выводы, полученные в рамках прежних суждений, были приняты как данность и воспроизведены; авторы словно и не заметили, что новый взгляд ставит их под вопрос. Согласно метафоре, предложенной Робертом Морганом тридцать лет тому назад, наступает время, когда шахматные фигуры нужно вернуть на доску, чтобы можно было начать игру заново. Я полагаю, что когда речь заходит о корпусе Павла, мы уже дождались этого времени. То же самое, считаю я, касается и вопроса Павлового материала в Деяниях апостолов. Однако эти программные заявления шире формата этой книги, потому что, хотя я буду иногда обращаться к Ефесянам и Коллосянам и даже временами к Деяниям, большая часть важных выводов будет опираться на общепризнанные послания Павла. И если кажется, что я подталкиваю к тому, чтобы кто-то высунул голову из окопа, хотя сам так сделать не желаю, мое единственное оправдание заключается в том, что в определенном смысле мне приходится соответствовать стереотипу епископа, который я в большинстве случаев все же пытаюсь разрушить.
Определяя нашу дискуссию рамками современной культуры, мы должны сказать о постоянном напряжении между центром и периферией, между абстрактным богословием и богословием практическим или посланиями, написанными в определенной ситуации. К нему я также отношусь как к ложному противопоставлению «либо/либо», вызванному скорее, как мне кажется, элементами нашей культуры или даже личностными качествами – элементами, которые склоняют одних к систематическим заявлениям, а других – к раскованной и беспечно непоследовательной ситуационной реакции. Иногда среди библеистов можно встретить врожденную подозрительность к систематическому богословию, которое, боюсь, вытекает скорее из воспоминаний о «системках» воскресной школы, чем из настоящего знакомства с богатым и рафинированным миром современной систематики. Иногда можно встретить и противоположную подозрительность к ситуационности, вызванную скорее страхом перед нравственным хаосом, чем рабочим знанием настоящей исторической экзегезы.
Определяя нашу дискуссию рамками современной культуры, мы должны сказать о постоянном напряжении между центром и периферией, между абстрактным богословием и богословием практическим или посланиями, написанными в определенной ситуации. К нему я также отношусь как к ложному противопоставлению «либо/либо», вызванному скорее, как мне кажется, элементами нашей культуры или даже личностными качествами – элементами, которые склоняют одних к систематическим заявлениям, а других – к раскованной и беспечно непоследовательной ситуационной реакции. Иногда среди библеистов можно встретить врожденную подозрительность к систематическому богословию, которое, боюсь, вытекает скорее из воспоминаний о «системках» воскресной школы, чем из настоящего знакомства с богатым и рафинированным миром современной систематики. Иногда можно встретить и противоположную подозрительность к ситуационности, вызванную скорее страхом перед нравственным хаосом, чем рабочим знанием настоящей исторической экзегезы.
Мое личное знакомство с Павлом заставляет меня подозревать, что он был бы в замешательстве от подобных различий. Конечно, он сказал бы, что все послания были написаны конкретным церквям в конкретных ситуациях. Это касается даже послания христианам Рима – возможно, его это касалось в первую очередь. Но это ни в коем случае не значит, что он отказался бы от факта выражения последовательного послания во всех своих письмах, хотя оно и требовало уточнения в нюансах тут и там, в зависимости от ситуации. Любой, кому приходилось проповедовать перед разными собраниями, и кто занимался пасторским попечением с разными группами людей, прекрасно знает, что в тот самый момент, когда встает некая особенная ситуация, необходимо особенно четко высказать самое главное и непреложное. Можно чуть ли не сформулировать общее правило: чем специфичнее ситуация, тем острее потребность в возвращении к ключевым истинам, пусть даже изложенным по-новому.
Я сознательно говорил пространнее о контексте, в котором происходили споры о наследии Павла, чем о самом наследии. На метауровне наследие Павла использовалось для того, чтобы церковь была наготове: поскольку он бросает столько вызовов, апостол как бы отказывается допустить, чтобы мы успокоились, полагая, что все понятно. И то, что мы никак не можем понять, особенно нам необходимо, если мы не хотим опоздать на поезд. Чем больше мы размышляем о разнообразии прочтений Павловых текстов за все годы, особенно последние, тем сильнее нас должно привлекать очень плотное историческое повествование о реалиях тогдашнего мира (в наши дни это иногда называется «плотное описание»), тщательно выверенное понимание элементов его богословия, внимательное и скрупулезное прочтение его писем и не имеющее запретов уяснение того, что все это может означать в двадцать первом веке. Данная книга не позволит сделать больше, чем малую толику из всего этого, но важно, чтобы читатели осознали более широкий набор задач, которые она хоть как-то затронет. И поскольку для того чтобы начать путь лучше всего разложить карту, чтобы увидеть все шоссе и тропинки, в следующей главе мы начнем рассматривать две взаимосвязанные темы, которые проходят с начала корпуса Павла (да и всей Библии) до конца: творение и завет.
Николас Томас Райт - Новый взгляд на Павла - 4 Евангелие и империя (перевод Стоик)
1. Введение
2. Основы имперской идеологии кесаря
3. Иудейская критика языческой империи
4. Антиимперское богословие Павла
5. Выводы
1. Введение
Пока в этой книге я говорил о Павле главным образом в контексте его по существу еврейского образа мышления. Он придерживался, как я обосновывал, именно ветхозаветного богословия Творения и Завета, но через призму евангельского откровения. Он верил, что Иисус был Мессией, обещанным Богом Израилю, и что его смерть и Воскресение в частности стали ничем иным, как великим апокалипсическим событием, в котором, до тех пор скрытое божественное домостроительство было наконец явлено Израилю и, через проповедь Евангелия, явлено всему миру. Теперь можно было бы проследить то, как Павел развивает эти темы уже в соприкосновении с современной ему эллинистической культурой, взяв за основу, как в частных выводах, так и в целостном критическом анализе, тот принцип, который был сформулирован самим Павлом в 10 главе второго послания к Коринфянам, а именно “пленяя всякое помышление в послушание Христу”. Но вместо этого, в этой главе я хочу пойти дальше и рассмотреть то, что для самого Павла представлялось более актуальной и уж конечно более опасной задачей, а именно формирование проповеди, которая в своей основе подрывала имплицитно, но иногда даже и явно, идеологические основы мира Средиземноморья поздней античности. Я имею в виду идеологические основы, на которых к этому времени покоилась и процветала Римская империя.
Я хотел бы еще обратить внимание на три вещи, прежде чем мы продолжим, для того, что бы по возможности избежать традиционных современных анахронизмов и реконструкций, когда речь идет о кропотливом изучении мира мысли прошлого.
Во-первых, о нашем собственном политическом контексте и ожиданиях. В этом отношении, как и во многих других, мы все, причем в гораздо большей степени, чем иногда представляем, являемся детьми идеологии Просвещения и привыкли к четко очерченной политической палитре убеждений. В частности, мы совершенно убеждены в традиционной модели “левые-центристы-правые”, в соответствии с которой, чем “левее” находится человек, тем больше он склонен находиться в оппозиции ко всем формам управления и власти, и наоборот, чем “правее” его убеждения, тем больше он склонен поддержать крепкое и стабильное правительство и гражданскую власть.
Вооруженный таким скользящим барометром, современный читатель смотрит 13 главу Послания к Римлянам и приходит к заключению, что решительная настойчивость Павла в отношении повиновения правящей власти, ставит его, по крайней мере, в “правоцентристскую позицию” нашего политического спектра. Но, самое интересное в том, что Павел никак не связан с привычным для нас политическим спектром. Если и возможно как-то квалифицировать его политические взгляды, то только в контексте совершенно уникальных с исторической точки зрения воззрений иудаизма периода Второго храма, которые определялись факторами и принципами совершенно отличными от тех, которые формировали мировоззрение Европы и Америки начиная с восемнадцатого века.
Во-вторых, мы должны признать, что современная западная секуляризация – разделение теологии и общества, религии и политики, не имела бы никакого понимания, ни со стороны Павла, ни со стороны любого из его современников, будь-то еврей, грек или римлянин. Израиль верил в то, что именно Бог является Создателем, Правителем и Судьей для всей вселенной. Боги Греко-римского мира были неразлучно связаны с социальной и гражданской жизнью. Новый бог пантеона, сам кесарь, был живым свидетельством соединения божественной и человеческой сфер….
Большинство же современных библеистов, будь-то так называемые “либералы” или так называемые “консерваторы”, просто занимаются проецированием современных философских и социологических категорий по отношению к Новому Завету. Насколько анахронистичен такой подход становится очевидным даже при ближайшем знакомстве с реалиями 16-17 веков, не говоря уже о более ранних временах.
В-третьих, я еще хотел бы сказать кое-что и о том, каким образом мы определяем наличие аллюзий и эхо в той или иной концепции. Это как раз тот случай, когда экзегеза должна принимать во внимание все контекстуальные особенности в гораздо большей степени, чем это было в науке раньше. Возьмем пример из другой области: Грехам Робб, автор любопытной книги “Незнакомцы” (вариант “Чужаки”), отслеживает те способы, с помощью которого авторы в мировой литературе, используя намеки, кодовые слова, имена и цвета, имплицитно говорили о гомосексуальных отношениях тогда, когда эта тема в обществе была полностью табуирована. Другой пример я приводил в лекциях, на основе которых пишется эта книга, а именно, что во время культурной революции в Китае острой литературной цензуре подвергалось создание исторической драмы как жанра, так как, описывая исторический период, который был столетиями раньше, автор мог (как, например, Шекспир) критиковать современный ему режим и реалии, что, по идее, должно было быть понятно лишь немногим, но на самом деле легко проглядывалось и преследовалось. В первом веке нечто подобное мы находим в отношении Филона Александрийского с одной стороны и Нерона с другой.
Что касается непосредственно Нового Завета, то самой известной работой по нахождению и определению таких скрытых аллюзий в тексте, является труд Ричарда Хейза, его знаменитое “Эхо Писания в Посланиях Павла”. Он предлагает семь критериев, разработанных куда как более обстоятельно, чем это возможно сделать в одной лекции, для определения в тексте “эхо кесаря” рядом с ”эхо Писания”.
Что касается непосредственно Нового Завета, то самой известной работой по нахождению и определению таких скрытых аллюзий в тексте, является труд Ричарда Хейза, его знаменитое “Эхо Писания в Посланиях Павла”. Он предлагает семь критериев, разработанных куда как более обстоятельно, чем это возможно сделать в одной лекции, для определения в тексте “эхо кесаря” рядом с ”эхо Писания”.
1. Доступность: а именно был ли материал в достаточной степени доступен и узнаваем в культуре того времени?
2. Контекстуальная объемность: повторяется ли материал в определенном контексте, и начинает ли он узнаваться именно в связи с этим контекстом? Какова значимость этого материала в непосредственных источниках и его уместность, в каком-либо другом контексте в эпоху Павла?
3. Повторение. Повторяется ли то или иное понятие или та или иная тема где-либо в другом месте корпуса Павловых Посланий, для того чтобы у нас были достаточные основания для определения более широкой палитры значений?
4. Тематическая согласованность. Хорошо ли согласовывается тема с другими аспектами богословия Павла? Насколько хорошо вписывается тема в общий контекст рассуждений Павла в отдельном отрывке или Послании в целом? (Это как раз тот момент, когда любая попытка определения “эхо кесаря” неизбежно натолкнется на вопрос: а как же быть с 13 главой Послания к Римлянам?)
5. Историческая правдоподобность. Действительно ли Павел имел в виду значение, которое мы сегодня видим и определяем в его богословских конструкциях, или же это значение является по своей сути анахронистичным и находящимся вне контекста? (В качестве ремарки замечу, что основное бремя вины за анахронистичность многих наших представлений лежит именно на секуляризации нашего общества, а именно на разделении религии и политики, о котором я говорил чуть раньше). Понимают ли читатели Посланий Павла весь спектр срытых мыслей и намеков, которые содержались в тексте? Способствует ли интертекстуальность более широкой культуры, паутина намеков и отголосков, привычных для цивилизации в целом, правильному пониманию имплицитного повествования?
6. История интерпретации. Понимали ли толкователи и комментаторы Павловых Посланий других эпох текст таким образом, о котором идет речь? (Еще одна ремарка: если бы ответ всегда был “да”, то у современной экзегетики просто не было бы поля для работы, но вся проблема в том, что экзегетика более ранних эпох постоянно была более заинтересована в практическом применении текста к потребностям своего времени, нежели в понимании текста в его собственно оригинальном значении, поэтому-то ответ “нет” не является особо удивительным, что конечно в свою очередь никак не означает, что экзегеза на других исторических этапах приняла неправильное направление).
7. Удовлетворенность. Позволяет ли это прочтение “говорить” тексту с новой последовательностью и ясностью? Разрешает ли текст, прочитанный и понятый в этом контексте, возникающие трудности? Есть ли впечатление нового понимания, если мы читаем текст таким образом (в терминологии Хейза “Ага!” - прим. пер. думаю, что это соответствует архимедовскому “эврика!”).
Естественно, что эти 7 критериев не являются исчерпывающими и могут применяться на различных уровнях и различными способами. Как и все остальные принципы изучения истории и литературы, они, конечно же, содержат в себе значительную долю субъективизма, но от этого они не становятся хуже, в конце концов, ведь и соперничающие с ними неявные имплицитные теории, являются не менее субъективными. Мы, наверное, должны сделать небольшой комментарий, что хотя, на первый взгляд, все это выглядит достаточно сложно и тяжеловесно, тем не менее, это скорее сложность непосредственно для нас, чем для писателей и читателей первого века, которых мы стремимся понять.
Если бы две тысячи лет назад историк предпринял бы попытку понять тексты нашего времени, ему бы пришлось со всем усердием и сопутствующими трудностями продираться через коросту незначительных героев мыльных опер перемешанных со второсортными политиками, учитывая наличие инспекторов по оружию с одной стороны и лодочных гонок с другой, - одним словом мир, в котором уже не понимают Шекспира но зато понимают Элтона Джона. По этому миру мы с вами двигаемся без особых затруднений, но другим пришлось бы восстанавливать его сантиметр за сантиметром. Именно это мы и пытаемся делать, учитывая еще ограниченный объем информации о Павле и его мире. Однако одну вещь об этом античном мире мы можем сказать с уверенностью, а именно, что он был гораздо более многоуровневый и сложный, чем это когда-либо удастся представить в современных реконструкциях. Нам пришлось много сказать, даже слишком много для краткой вводной части. И сейчас я хотел бы поговорить о некоторых ключевых особенностях ранней Римской империи, ее идеологии и культа. После этого я хотел бы остановиться на стандартной иудейской критике тех оснований языческой империи, которая и сформировала тот мир мысли и представлений, из которого пришел Павел. После чего я хотел бы остановиться на ключевых Павловых текстах для текстуального обоснования моей аргументации. И как мы увидим, именно те категории, о которых мы уже говорили ранее, а именно “Творение”, “Завет”, “Мессия”, а так же неизбежная апокалиптичность подтолкнули Павла на прямую конфронтацию с самой значительной политической и военной силой его эпохи – с могущественной Римской империей.
2. Основы имперской идеологии кесаря
Когда Павел был обращен ко Христу, Рим в качестве империи существовал уже более двух поколений. Древняя и почтенная Римская Республика прекратила свое существование в эпоху гражданских войн, последовавших за убийством Цезаря. Несколько лет кровавых конфликтов привели, наконец, к возвышению Октавиана, родственнику Цезаря по материнской линии и его наследнику (прим. пер. После вскрытия завещания выяснилось, что Цезарь усыновил Октавиана, оставив ему большую часть своего имущества), который принял титул Августа (прим. пер. (лат. augustus, «возвеличенный богами») и единолично правил Римом и его расцветающими имперскими владениями по всему Средиземноморью последние два десятилетия до Рождества Христова и еще 14 лет после Рождества Христова. Его усыновленный наследник Тиберий (прим. пер. Сам Август не имел сыновей, а смерть лишила его не только племянника Марцелла и внуков Гая и Луция, но даже и любимого пасынка Друза, умершего в в Германии.
Оставался только его старший брат, Тиберий Клавдий Нерон. Август усыновил Тиберия — против воли и под давлением обстоятельств, намёк на что усматривают в завещании, — и тот, сменив Августа на престоле, получил имя императора Тиберия) продолжил и расширил дело Октавиана. Тиберию наследовал сумасбродный Гай Калигула, а тому, в свою очередь, проницательный, но слабовольный император Клавдий. Смерть Клавдия в 54 году по РХ. открыла дорогу к трону Нерону, чье первоначальное управление было ознаменовано большим оптимизмом и надеждами, но который был вынужден покинуть трон (прим. пер. и закончить жизнь самоубийством) презираемый и ненавидимый многими и оплакиваемый лишь единицами в 68 году. После его смерти во власти началась настоящая чехарда, известная в истории как “год четырех императоров”, когда, наконец, несколько месяцев полного хаоса закончились установлением Веспасианом новой династии. Все это время границы империи простирались на всем протяжении Сердиземноморья и на значительное расстояние вглубь. Избавившись от основного соперника – Карфагена несколько столетий назад (прим. пер. Карфаген был разрушен в 146 году до РХ. во время третьей пунической войны), Рим купался в роскоши, находясь в зените своей славы, богатства и могущества.
В пределах этого исторического периода идеология Рима как Империи опиралась на признанные идеалы Рима республиканского. Цицерон настаивал еще за столетие до проповеди Павла, что Рим и его граждане являются оплотом свободы. Именно они установили настоящие демократические формы управления, которые формально признавались даже в период ранней Империи. Убежденность Цицерона в величии римской демократии и его потребность поделиться этими величайшими, на его взгляд, достижениями в общественном устройстве со всем миром были настолько велики и непоколебимы, что даже тогда, когда политические противники изгнали Цицерона из Рима и разрушили его поместье, то его друзья воздвигли на этом месте статую богини Свободы. Точно также Римская республика всегда гордилась своими достижениями в области права и судопроизводства, и в середине правления Октавиана Августа “Юстиция” тоже становится официальной римской богиней. Рим не только имел монополию на правосудие, но и чувствовал свою обязанность распространить его на весь универсум.
После окончания гражданской войны Октавиан Август был провозглашен “установителем мира” – хотя киники (прим. пер. здесь не совсем ясно имеется ли в виду кинизм, как философское направление, или же стоит понимать в современном смысле слова “циники”) могли говорить о том, что мир наступил скорее вследствие военного истощения противников Августа, нежели из-за его добродетелей, и один из римских киников в своем произведении, написанном столетие позже, вложил в уста одного из поверженных противников обвинение в том, что римляне превращают поле битвы в пустыню и потом называют это “миром”. Август также был провозглашен “Спасителем” в благодарность за прекращение гражданской войны и за усмирение внешних врагов. Свобода, справедливость, мир и спасение стали основными темами там, что можно было бы назвать “средствами массовой информации” древнего мира, а именно – в надписях на статуях и монетах, в поэзии и гимнографии, в риторических панегириках. И вся эта тематика, которая вполне претендовала на то, что бы быть “благой вестью”, ”евангелием”, неизменно фокусировалась вокруг одной личности – императора, который установил и гарантирует долгожданное спокойствие и умиротворение.
Поэты и историки так же были увлечены рассказом этой новой истории. Вергилий, Гораций, Ливий и многие другие, каждый своим способом составляли новое великое повествование об Империи, новую эсхатологию, которая теперь достигла своего кульминационного момента. (Цицерон пытался делать тоже самое, хотя, конечно, несколько преждевременно, поздравляя Рим с новым рождением во время своего консульства). Придворные римские поэты Августа говорили о том, как Рим прошел периоды своего ученичества, подготовки и теперь, наконец, занял свое полноправное место хозяина мира. Эта идеология, как и любая имперская риторика, конечно же переписывалась по мере роста империи, но, тем не менее, смогла выжить даже во время нелепого хаоса в 69 году после РХ (прим. пер. за этот год, как уже говорил Райт, сменилось 4 императора – Гальба, Отон, Вителий и, наконец, к власти пришел Веспасиан) и вполне хорошо продолжалась развиваться в последующие столетия.
Символы Империи присутствовали везде. Безжалостная и эффективная римская военная машина сметала перед собой все препятствия – почти все, если учесть довольно странную катастрофу в Германии, которая закончилась потерей нескольких легионов (прим. пер. В 9 году после РХ. Публий Квинтилий Вар с тремя легионами потерпел поражение в Тевтобургском лесу. Погибло 25-30 тыс. человек, в т.ч. и сам Вар. Светоний Транквилл сообщает, что это произвело ужасное впечатление на Октавиана Августа, который бился головой о дверной косяк, причитая “Вар, верни мои легионы”). Все восстания подавлялись с холодной жестокостью, делая крест эффективным и устрашающим символом имперского могущества, перед тем как он стал символизировать что-то совсем другое.
Римская система правосудия, которая, говоря по справедливости, была гораздо более совершенной, чем местные системы права покоренных народов, делала суды и трибуналы подотчетными только императору. Римские провинциальные правители могли быть, а иногда и на самом деле были, подвергнуты судебному преследованию в конце срока их правления, если местные жители жаловались на неумелое управление. Конечно, Рим взимал значительные суммы с провинций, для того, что бы те продолжали пользоваться привилегиями свободы и справедливости, и это еще больше способствовало величию самого Рима, как центра всей империи. Все императорское семейство, и сам император и его предшественники, его жена и его дети были хорошо известны по всей эйкумене благодаря скульптурным и нумизматическим изображениям.
От Испании до Сирии все знали о Риме, какие принципы он отстаивал, что он сделал и кто за это ответственен. В рамках этой имперской идеологии, культ императора был самой быстрорастущей религиозной идеей в мире Павла, а именно в Восточном Средиземноморье. Октавиан Август таким образом укрепил и собственное положение, когда объявил, что Юлию Цезарю после его убийства полагаются божественные почести. Большинство императоров отплатило своим предшественникам тем же, часто сопровождая эту церемонию “свидетельствами очевидцев”, о том, как душа последнего императора поднималась на небеса. Из этого вытекало, что новый император является “сыном бога”, даже если учесть что преемственность власти носила не наследственный, а адоптивный характер.
Большинство первых императоров были достаточно осторожны, что бы не требовать божественных почестей в самом Риме, но на Востоке, где божественный статус был непосредственным атрибутом деспотов и правителей, не было не только никаких проблем для установления культа императора, но и даже никакого давления, не в последнюю очередь из-за значительных преференций для тех городов, которые поддерживали это начинание.
Центр Эфеса специально был перестроен, что бы подчеркнуть значение храма императора. Новый храм императора в Коринфе был воздвигнут на постаменте в западной части форума специально так, что бы он был выше, чем любой другой храм в этой местности. Организовывались игры, празднования и церемонии различного рода в честь императора, в религиозной иерархии появились жрецы, непосредственно связанные с новым культом, статуи императора и его семьи воздвигались на основе мотивов из господствующего Греко-римского пантеона. Божественность императора была очевидной и бесспорной ровно настолько, насколько это соответствовало желаниям большинства римской эйкумены. В конце концов, именно император и его легионы покорили весь известный мир и это, очевидно, было свидетельством превосходящего всех могущества. Именно в этот мир шел Павел с благой вестью о том, что Иисус из Назарета, распятый римскими солдатами, воскрес из мертвых и является настоящим Господом мира, повсеместно требуя преданности только Ему. Но Павел проповедовал не в вакууме. Он опирался на определенные иудейские традиции, которые, как он верил, нашли свою кульминацию в Иисусе. Прежде чем пойти дальше, мы должны на них кратко остановиться.
3. Иудейская критика языческой империи
Ко времени Павла у евреев был уже значительный опыт проживания в языческих империях. За исключением небольшого отрезка времени независимой монархии во время Давида и Соломона, большую часть истории они провели или как рабы в Египте (или, по крайней мере, рассказывая историю о том, как они были в египетском рабстве), или как изгнанники в Вавилоне (или рассказывая историю о вавилонском изгнании). Даже в период относительной независимости никогда не исчезала угроза чужеземной власти. Магистральное понимание евреями того, как необходимо выживать в таких условиях, было выпестовано пророками. Пророк Самуил недвусмысленно говорил о том, как ведут себя языческие правители, и предупреждал народ о том, что и его царь, возможно, будет делать то же самое. Амос яростно восставал против языческих правителей, прежде чем перейти непосредственно к критике Израиля и Иудеи. Исайя объявлял, что истинный Бог использует власть ассирийцев, чтобы наказать свой народ, но в свое время и Ассирия будет наказана. Возвышение Вавилона было отмечено предсказаниями о его будущем разрушении. И хотя Иеремия видел в нем необходимое орудие праведного божеского гнева против Иудеи, его заключительное описание низвержения Вавилона производит еще более ужасающее впечатление. В частности, центральная часть книги пророка Исайи, главы 40-55, содержит объемное и язвительное обвинение в адрес язычества как такового, так и имперских властей, его поддерживающих. Вместе с этим, Исайя объявляет о том, что истинный Бог выбрал Кира, перса, который даже не знал этого Бога, что бы исполнить свою волю об освобождении изгнанников из Вавилона, одновременно приоткрывая, медленно и таинственно, искупительное дело Того, кто назван слугой Яхве.
Похожую богословскую линию мы находим в форме рассказа в книге Эстер (Книга Есфи́ри (ивр. אֶסְתֵּר, Эсте́р)). Наконец, мы можем обратить внимание на книгу пророка Даниила, которая презирает могущество и религиозные притязания языческой империи и возвеличивает еврейских героев, противостоящих ей. Книга пророка Даниила это та книга, в которой мы находим очень значимый рассказ о том, как последовательно возникают четыре языческих царства и последнее из них свергается, когда Бог устанавливает собственное Царство и восстанавливает свой народ. Конечно, нельзя сказать, что эти вещи совершенно очевидны для наших прокрустовых стандартов в любой из этих книг. Когда Бог действует, что бы спасти трех еврейских отроков из печи или Даниила из логова льва, им тогда предлагаются значительные должности на имперской гражданской службе.
Иеремия говорит изгнанникам расселится и способствовать благосостоянию Вавилона, пока они живут там. И в таких случаях мы сознаем, насколько неадекватен наш право-левый спектр для понимания того, что евреи думали о земных правителях. Радикальное идеологическое противостояние с языческими политическими системами совершенно не означало поддержку анархии. Еврейские политические представления, которые мы находим в этих книгах, полностью основаны на богословии Творения, падения и Провидения: Один единственный Бог сотворил весь мир, включая вех земных правителей, и хотя часто они были чрезвычайно сумасбродны, Бог направлял их прихоти для достижения Своих странных и часто скрытых целей и в конце концов будет судить их Сам.
Это и означало классическое еврейское отношение к светским языческим властям, которое позже мы находим в христианстве 2-3 веков, и которое для нас кажется принадлежащим обоим полюсам нашего политического спектра. Правители мира – злы и их ожидает суд, особенно за преследование народа Божьего, но сам Бог не хочет погружать мир в пучину анархии и хаоса и их правление соответствует Его промыслу о мире. Поэтому Его народ должен научиться жить под языческим правлением, даже учитывая возможную опасность компромисса с самим язычеством. Наследие этой библейской позиции хорошо заметно в литературе периода Второго Храма, не говоря уже о движениях контемпоральных самому Павлу.
Книга Премудрости Соломона, написанная, возможно, не на много раньше, чем Послания Павла, говорит о том, что она научит земных правителей правильному и разумному поведению. Она начинается с драматической сцены, когда сумасбродные правители мира преследуют праведников и говорят о том, что когда они их убьют, память о них исчезнет навсегда. Нет, они не исчезнут, говорит автор Премудрости, основываясь на 12 главе книги пророка Даниила, - они возвратятся, будет суд и земные правители ужаснуться своей собственной судьбе. Поэтому, вы, правители, должны остерегаться – ведь есть Бог, который призовет всех на последний суд. Поэтому то что вам надо, как и самому Соломону, – это Мудрость, что бы вы смогли правильно распорядиться полученной властью и справиться со своими обязанностями.
Вторая часть книги – это замечательный пересказ ранних книг Ветхого Завета, сосредоточенный в значительной степени на ниспровержении Богом фараона и освобождении Израиля.
Вторая часть книги – это замечательный пересказ ранних книг Ветхого Завета, сосредоточенный в значительной степени на ниспровержении Богом фараона и освобождении Израиля.
Эта история рассказывалась, и в этом можно быть уверенным, не только из-за антикварного интереса. Что Бог сделал для Израиля раньше и что Бог сделал с языческим правителем, - все это Бог сможет сделать и сделает еще.
Критическая оценка языческой империи как таковой и обещание ее ниспровержения находят свое выражение и в кумранских текстах, очевидный пример чему 1QM, так называемый “Свиток войны”. В этом манускрипте образы, заимствованные из Псалмов и Пророков, многократно используются, причем вполне определенно, для демонстрации того, как решительно будет действовать Бог, как пышно и торжественно начнется святая война и как все народы окажутся прахом под ногами благочестивых евреев. Бог, с его правосудием и святостью, одержит последнюю решающую победу.
В то же самое время, мы знаем и о том, что члены кумранской секты на различных этапах все еще надеялись оказывать влияние на иерусалимское священничество (свидетельством чему, например, является кумранский манускрипт 4QMMT) и таким образом прийти к власти. Если бы это удалось сделать, им бы пришлось столкнуться с более сложной и гораздо более выходящей за традиционные “черно-белые” рамки реальностью, которая была уже знакома многим их современникам. Мы можем, например, обратить внимание на совершенно другую точку зрения, представленную в Маккавейских книгах. Таким образом, хотя время от времени мы находим в богословии Павла отзвуки 1QM и подобных ему текстов (особенно, например, это отчетливо заметно во 2 Послании к Фессалоникийцам, что заставило некоторых усомниться в его аутентичности), они объединены с другими темами, которые нечасто использовались кумарнскими авторами.
Некоторые писатели первого века использовали книгу пророка Даниила и подобную традицию для того, чтобы строить апокалипсические модели, что, например, мы находим в 4 книге Ездры и во 2 книге Баруха, в которых критика Даниилом языческих империй, не в последнюю очередь его представление о 4 последовательно возвышающихся и ниспровергающихся царствах, применяется авторами к анализу их современности. Эти тексты являются своего рода реакцией на разрушение в 70 году Иерусалима и многократно используют традиционный материал как для скорби, чтобы дать оценку произошедшему (возможно, так или иначе, - размышляют авторы, это было необходимое наказание, подобное вавилонскому пленению), так и в качестве обетования для будущего освобождения. Различная конфигурация традиционных образов и тем вызывается, не в последнюю очередь, различной исторической ситуацией.
Так, например, в разительном контрасте с представленным материалом находится Иосиф Флавий, который дает совершенно другую оценку тех же самых текстов. В Писании, говорит он, действительно есть предсказание о том, что к этому времени из Иудеи придет владыка мира, но это предсказание относится совсем не к еврейскому Мессии, а к Веспасиану, который на самом деле проделал путь из Иудеи до Рима (прим. пер. 1 июня 69г. легионы, находящиеся в Египте и Иудее объявили императором Веспасиана, что в итоге привело к захвату им власти) и стал императором (и династия которого, вообще-то, снабдила Флавия государственной пенсией). Но даже Иосиф Флавий все-таки еще находится в рамках еврейских представлений, так как он мог, в принципе, с некоторой долей справедливости утверждать (хотя в радикально новом русле), что древняя доктрина Божественного правосудия использует языческих правителей для наказания самих евреев (сам Иосиф обвинял в бедах народа радикально настроенных революционеров) и таким образом осуществляется правление миром.
В этих же рамках находится и еще нечто, что подготовило настоящий взрыв полной картины традиционных интерпретаций, а именно появление на сцене молодого Пророка во времена правления Тиберия, Который объявил всем о том, что сам Бог наконец становится Царем, Который принял смерть в убеждении, что это каким-то непостижимым образом приблизит столь ожидаемое правление, и последователи Которого объявили, что Он воскрес их мертвых. Связи между мыслями и, особенно, действиями самого Иисуса из Назарета и той развитой формой богословия, которую мы находим у Павла, вообще являются предметом отдельного исследования, и к этому мы кратко вернемся в заключительной главе.
Вот так выглядит весь спектр, или, по крайней мере, большая часть спектра иудейских представлений о языческих властях. Это составляет тот тип богословия о земном правлении, который разительно отличен от принятого христианами на Западе сегодня, но он непосредственно связан с той картиной Творения и Завета, набросок которой я делал во второй главе.
Бог хочет, чтобы мир был управляем, для того чтобы зло держалось под контролем, в противном случае оно просто будет процветать и нас ждет победа голой силы и агрессии. Но правители мира держат ответ перед Богом, особенно в тех случаях, когда используют власть для реализации тех диких импульсов, которые они наоборот должны усмирять и ограничивать. Тем же временем, Бог ведет мир к совершенно другой цели, что в итоге должно привести к оправданию и восстановлению Его народа и конечному осуждению всех мировых Фараонов и Вавилонов.
Все это основывается, конечно, на том самом монотеизме, который провозглашает творение мира, и который, столкнувшись с наличием зла в этом мире, объявляет, что однажды Бог поставит все на свои места, и что мы можем видеть приближающиеся признаки этого в системах правосудия и правления даже тогда, когда они несовершенны. Это не оставляет никакого места для банального дуализма, в котором все языческие правители являются полностью плохими и могут не приниматься в расчет и даже свергаться без мысли о том, что же будет дальше. Так же не оставляет это места и для пантеизма, в котором земные правители просто являются неотъемлемой частью божественного управления миром, и которые вправе требовать беспрекословного подчинения каждой их прихоти. Было бы очень любопытно проследить то, как в европейской теологии в последние несколько столетий эти самые варианты были испробованы и признаны недостаточными. Но, моя некомпетентнсть в этом вопросе удачно маскируется за отсутствием места в этой главе, и поэтому теперь я должен вернуться к задаче определения истинного места Павла в сфере еврейского критического анализа языческой империи.
4. Антиимперское богословие апостола Павла
Исходить в этой главе мы будем из того, что уже обсуждали в последних двух главах. В соответствии с Павловым пониманием Творения, один Бог является причиной возникновения и существования мира и, в конце концов, восстановит в нем окончательную справедливость. В соответствии с Павловым богословием Завета, этот самый Бог спасет свой народ от языческого притеснения. Павлово мессианское богословие приветствовало Иисуса, как Царя, Господа и Спасителя, перед Которым должно преклониться каждое колено. Наконец, в его апокалиптических представлениях Бог открывал свою спасительную справедливость в смерти и Воскресении Мессии. В каждом случае, поэтому, мы должны ожидать от Павла именно то, что мы у него находим: а именно, что Иисус – Господь, а кесарь – нет. Мы сначала представим небольшую схему того, как это работает у Павла, прежде чем перейти к конкретным ключевым текстам.
Перевод Дмитрий Сергеев 06.12.12
Во-первых, если Иисус это Мессия Израиля, то тогда он истинный Господь для всего мира. Это явный смысл обоих мессианских библейских текстов, к которым Павел обращается, и которые считали своей собственностью и другие евреи его времени. Для Павла мессианский статус Иисуса и его власть над миром были основаны на факте его воскресения. Как и в Премудрости Соломона, это поражение смерти, подтверждение оправданности мученической смерти праведников, которая объявляет земным правителям, что их игра проиграна. Если бы мы хотели богословски продвинуться немного дальше, можно было бы предположить, что, поскольку земные правители считают смерть своим абсолютным оружием, поражение смерти в воскресении явилось свержением главного и последнего врага, который стоит за всякой тиранией. Эти утверждения, я думаю, являются тем, что хотел донести до нас Павел в стихах 1 Кор 15.20-28 и Колоссянам 2.14-15. Но воскресение больше, чем поражение врага. Это открытие нового мира Божьего, новое творение, которое творит всё новое по слову и силе Бога-творца. Таким образом, воскресение распятого Мессии в понимании Павла, это как история, так и богословие, и (что не менее важно) символ, символ власти, которую никакая военная мощь не сможет победить.
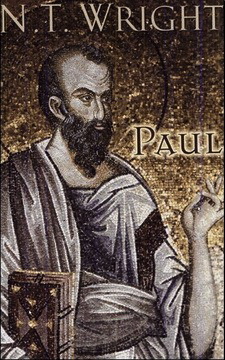


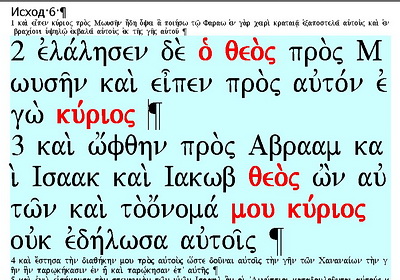

Комментарии
Пока нет комментариев. Будьте первым!