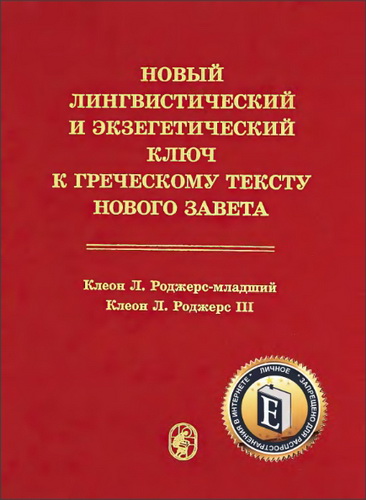
Вейнберг - Рождение истории
История — всегда диалог между настоящим и прошлым, между эпохами и поколениями, и «каждая эпоха выбирает себе в прошлом, иногда осознанно, иногда стихийно, традиции, близкие ей по духу, служащие коррелятом ее опыта» [Завадская. 1970, с. 5]. Многие факты — увлеченность восточными религиозно-философскими и этико-эстетическими учениями, популярность восточного словесного и изобразительного искусства и т. д. — говорят о том, что в отличие от человека XVIII-XIX вв., для которого коррелятом его опыта была классическая античность [Михайлов. 1988, с. 308-324], человек конца XX в. в поисках собеседника все чаще обращается к Востоку, особенно к древнему Востоку.
Перечисленные соображения подводят к мысли о целесообразности постановки трех основных вопросов: существовала ли на Ближнем Востоке середины I тысячелетия до н. э. историческая мысль, а если она существовала, то что занимало ее носителей в их собственном прошлом и как они осмысляли это свое прошлое?
Труд современного историка, кстати, как и труд его далекого предшественника, носит в принципе индивидуальный характер, что не означает келейности, отгороженности от внешнего мира. Наоборот, индивидуальный труд историка предполагал, видимо, в древности и бесспорно предполагает в настоящее время необходимый обмен мнениями, обсуждения и т. д.
Этим я воспользовался по мере возможности и искренне благодарен своим коллегам, особенно И. М. Дьяконову и И. С. Свенцицкой, за критические замечания и конструктивные советы, а моей жене - Л. А. Вейнберг — за понимание и поддержку.
Вейнберг И.П. Рождение истории. Историческая мысль на Ближнем Востоке середины I тысячелетия до н.э.
М.: Наука, 1993.
Илья Вейнберг - Рождение истории - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
Глава I. ПРОБЛЕМА, КАТЕГОРИИ, ИСТОЧНИКИ
Глава II. СЕРЕДИНА I ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ДО Н. Э — ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ
Глава III. БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЙ АВТОР - «ИСТОРИОПИСЕЦ», ЕГО ИСТОЧНИКИ И МЕТОДЫ
- 1. Ближневосточный историописец и историческая традиция
- 2. «Собственный материал»: его содержание и назначение
- 3. Делимитация и делимитаторы в ближневосточном историописании
- 4. Устное и письменное слово, прямая и повествовательная речь в ближневосточном историописании
- 5. Действие—главная пружина ближневосточного историописания
Глава IV. МОДЕЛЬ МИРА БЛИЖНЕВОСТОЧНОГО ИСТОРИОПИСЦА
- 1. Пути воссоздания модели мира ближневосточного историописца
- 2. Природа в ближневосточном историописании
- 3. Ближневосточный историописец о вещи и вещной деятельцости человека
- 4. Человек и людские общности — их место и роль в историческом процессе
- 5. Царственность, царство и царь в историческом процессе
- 6. Место и роль мира божественного в историческом процессе
- 7. Пространство и время в модели мира ближневосточного историописца
Глава V. БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЙ ИСТОРИОПИСЕЦ И ИСТОРИЗМ
- 1. Ближневосточный историописец и его аудитория
- 2. Был ли ближневосточной исторической мысли знаком историзм?
ПОСЛЕСЛОВИЕ
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
СПИСОК ЦИТИРУЕМЫХ РАБОТ
Илья Вейнберг - Рождение истории - Глава I - Проблема, категории, источники
Очевидно, прав А. И. Ракитов [1982, с. 38], подчеркнув, что «исторический интерес сам историчен», но прав ли он также, когда далее заявляет, что сравнительно легко ответить на вопросы, где и когда возник исторический интерес? Определив исторический интерес как категорию, которая фиксирует две группы отношений, а именно отношения человека к объективной исторической действительности в ее конкретных проявлениях на определенной стадии развития социальных изменений и отношения, выделяемые мышлением в самой действительности [Ракитов. 1982, с. 47], исследователь датирует его рождение VI-V вв. до н. э. в Греции.
Но если память, способность и потребность человека и человечества вспоминать свое прошлое есть видовое, сущностное свойство человека, если человек — историческое животное, отличающееся от других животных «любопытством к прошлому» [Deonna, 1922, с. 10], то столь позднее рождение исторического интереса кажется сомнительным, да и сама возможность установления даты и места его рождения представляется спорной. Быть может, правомернее признать неисторичность, в известной мере вневременность и общечеловечность исторического интереса, в котором, бесспорно, историчными являются менявшиеся и меняющиеся степени его интенсивности и формы его проявления?
Тем не менее прав Я. Печирка [Peиirka. 1975, с. 83], когда пишет, что «вопрос о том, когда и где могут быть найдены истоки историографии, есть вопрос исторический», и напоминает, что ответ, каким бы он ни был, не имеет никакого отношения к оценке культуры соответствующего народа. Мудрое и крайне необходимое предупреждение, ибо вопрос об истоках истории нередко выступал (и продолжает выступать) в качестве аксиологического и таксономического критерия.
Сформулированный в начале нашего века патриархом немецкой классической филологии У. фон Виламовиц-Меллендорфом [von Wilamowitz-Moellendorf. 1908, с. 5-6] тезис, что «все наши исторические писания основываются на началах, заложенных греками», доминирует в исторической науке наших дней, особенно в исследованиях античности. Подтверждением этому могут служить слова современного исследователя: «Надо сразу же и со всей определенностью подчеркнуть, что история как особый вид научного знания или, лучше сказать, творчества была детищем именно античной цивилизации» [Фролов. 1981, с. 83; ср.: Finley. 1965, с. 281-284; von Fritz. 1967, с. 2-3; Mьller. 1984, с. 336 и сл.; Немировский. 1986, с. 3 и сл., и др.].
Но показательно, что сторонники рождения истории в Греции все чаще и чаще признают появление на древнем Востоке задолго до эллинов сочинений, которые У. фон Виламовиц-Меллендорф [с. 5-6] назвал «своего рода хрониками», Р. Дж. Коллингвуд [1980, с. 16- 18] определил как две разновидности квазиистории - как миф и теократическую историю. Э. Д. Фролов на этот счет высказался так: «Разумеется, и у других древних народов, и в частности в соседних с греками странах классического Востока, бытовал интерес к прошлому и существовали известные формы фиксации главных, знаменательных событий из этого прошлого... Однако... историописание здесь остановилось на подступах к собственно истории» [Фролов. 1981, с. 83].
Остановимся на том, чем «собственно история» в Греции отличалась от «историописания» на древнем Востоке.
Наиболее полное и развернутое суждение на этот счет принадлежит Р. Дж. Коллингвуду [1980, с. 20], который утверждает, что из четырех постулируемых им основных признаков истории — история научна, поскольку начинается с постановки вопроса, она гуманистична, поскольку задает вопросы о сделанном людьми, она рациональна, поскольку обосновывает даваемые ею ответы, обращаясь к источнику, и, наконец, она служит самопознанию человека [ср. Finley. 1965, с. 281-284; von Fritz. 1967, с. 2-3; Лосев. 1977, с. 3 и сл., и др.] — в древневосточном историописании нет ни одного, следовательно, оно должно быть признано лишь квазиисторией. Но так ли это?
Совершенно очевидно, что отвечать на такой вопрос могут и должны востоковеды. И действительно, начиная с 1916 г., когда Э. Олмстед опубликовал свое исследование «Ассирийская историография», число работ, посвященных восточному историческому описанию или историческому интересу, древневосточной историографии, идеи истории, исторической мысли и т. д., быстро увеличивалось и продолжает расти. В них ведутся горячие споры о наличии или отсутствии на древнем Ближнем Востоке описания истории, исторической мысли, о сущности и особенностях древневосточного восприятия истории. Так, Л. Балл [Bull. 1966, с. 3 и ел.] категорически утверждает, что нет ни одного текста, который засвидетельствовал бы присутствие у древних египтян идеи истории; напротив, М. Вернер [Verner. 1975, с. 44 и cл.] признает наличие в древнем Египте активного интереса к своему прошлому; по мнению Я. Печирковой [Peиirkova. 1975, с. 13], «Месопотамская цивилизация не создала условий для научной мысли. Рациональное объяснение истории едва ли удовлетворило бы жителя Месопотамии, который объяснял действительность субъективно и эмоционально», однако У. У. Хэлло [Hallo. 1984, с. 20] считает лучшие образцы шумерской литературы историографией и т. д.
Примеры столь различных, нередко взаимоисключающих интерпретаций и оценок легко умножить, но важнее, пожалуй, отметить, что одной из причин такого положения выступает преобладающая в современном востоковедении ориентация на изучение отдельных, локальных исторических описаний - древнеегипетского, шумеро-вавилонского, ассирийского, хеттского, ветхозаветного и других, что затрудняет выявление сущности и специфики древневосточного восприятия истории. Другая причина — в тяготении исследователей к формальному анализу исторических текстов, к возможно более детальной их классификации и определению жанровых особенностей, выявлению стилистической и языковой специфики, учету версий и т. д. Отнюдь не умаляя необходимости и полезности подобных трудов, нельзя не видеть, что в них почти не остается места для концептуального анализа текста.
Возможно, что именно эти тенденции в современном востоковедении и пробудили стремление определить, лаконично сформулировать сущность и специфику восприятия истории на древнем Ближнем Востоке.
Когда X. Цанцик [Cancik. 1976, с. 8-9] заявляет, что важнейшей особенностью хеттского и ветхозаветного историописания является действие (Handlung), он, несомненно, прав (см. гл. III, 4), но этой одной, хотя и важной, особенностью сущность и специфика хеттского и ветхозаветного историописания не исчерпываются, так же как не исчерпываются они утверждением Э. Э. Шпайзера [Speiser. 1967, с. 270-274] о том, что для человека древнего Двуречья «история была чем-то включенным в более сущностные явления жизни и судьбы».
Видимо, требуется всестороннее изучение ближневосточных исторических текстов, охватывающее их форму и содержание, создание, функционирование и т. д., их комплексное рассмотрение с учетом особенностей локальных историописаний в их диахронно-синхронической взаимосвязанности, системный подход, признающий восприятие прошлого древним человеком структурой или подсистемой той многосложной системы, какую являет собой» древний Ближний Восток.
Тем самым мы приблизились к определению предмета предстоящего исследования, однако есть еще одно препятствие — уже отмеченная терминологическая неопределенность, нечеткость категориального инструментария. Если одно и то же явление именуется «историей» и «историографией», «историческим интересом» и «идеей истории», «историописанием» и т. д., то такое терминологическое многоголосие порождает дополнительные «шумы» в без того перегруженных помехами коммуникационных каналах современного человека. Кроме того, терминологическая пестрота, вероятно, свидетельствует о нечеткости, неопределенности в понимании самого обозначаемого явления. Поэтому уточнение категориального аппарата, терминологическая ясность и точность являются важными предпосылками не только для определения предмета разговора, но также для того, чтобы разговор состоялся.
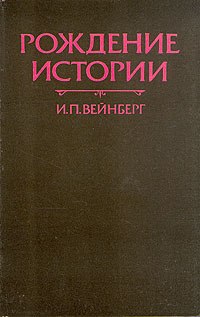

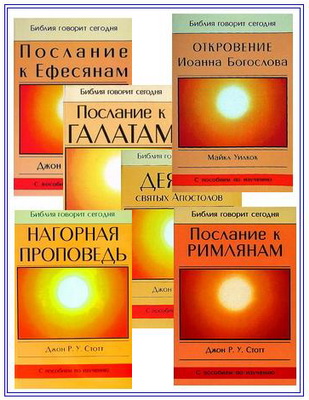

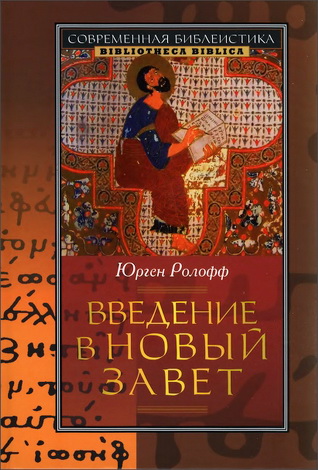
Комментарии (1 комментарий)
я эту книгу в студенческие годы в СПб прочитал от корки до корки, "забив" на обязательную литературу для чтения по ВЗ! Помню, зачитаешься в метро так, что порой и нужную станцю проскочишь...