Новая работа Владислава Бачинина
Владислав Бачинин - Мамардашвили и Достоевский
Интеллектуальная жизнь и философские приключения грузинского мыслителя
Преамбула
Эрих Соловьев, один из немногих честных и глубоких русских философов, которые каким-то чудом еще уцелели, высказал примечательную мысль о том, что на фоне хамского отношения Угрюм-страны к солнечной Грузии, становится особенно важным развитие «мерабоведения», то есть углубленное изучение философского наследия замечательного грузинского мыслителя Мераба Мамардашвили, равно связанного и с югом, и с севером бывшей империи.
На фоне этого нелицеприятного, но вполне трезвого суждения передо мной резким контрастом предстали комментарии читателей двух моих крохотных заметок о ММ, ранее опубликованных в Фейсбуке. Мне посчастливилось получить недвусмысленное эмпирическое доказательство того, что имя Мераба Мамардашвили ныне служит чем-то вроде диагностического зонда, погружающегося в сознание той относительно образованной российской публики, которая либо преподает философию в вузах или же имеет за плечами опыт такого преподавания в прошлом. Зонд обнаруживает вполне убедительные основания для безутешного диагноза: симфоническая (точнее, какофоническая) личность современного российского «философа» - это даже не коллективный пациент, а что-то вроде коллективного живого трупа, чьи злосчастные духовные останки имеют удручающие психосоциальные параметры. Вот лишь некоторые из них:
- не скрываемая неприязнь к грузинскому философу за его вольномыслие, а заодно и к грузинской земле, рождающей подобных нонконформистов, не приемлющих добровольного интеллектуального рабства;
- патологическая привязанность ко всему советскому, «совковому» – марксизму, сталинизму, ленинизму, всей советской идеологии, «философии» и прочему идейному хламу, гонимому «мусорным ветром», разгуливающим по забытым Богом духовным пустошам тяжело больной региональной цивилизации;
- преданность тоталитарной картине социальной и умственной жизни, неприятие самого факта существования той внутренней свободы, которую обрел и сумел отстоять Мераб Мамардашвили и упрямое намерение реанимировать то наихудшее в мировой философии, от чего ММ сумел отречься, что, казалось, было похоронено еще до 2000 года, а ныне поднялось из могил, заняло доминирующие места в ученых и не слишком ученых умах, на кафедрах, в университетах и прочих площадках. Духовные мертвецы, по какому-то недоразумению считающие себя философами, норовят хватать живых, слоняются по философским группам Интернета, и неустанно твердят о том, какой хорошей была марксистско-ленинская философия и как дурно ведут себя все те, кто смеют уклоняться от её прогнивших, смердящих догм.
В «замогильном мире» Угрюм-страны
Если читать Мераба Мамардашвили (1930-1990), находясь «на холмах Грузии», вдыхая грузинский воздух, ощущая свежесть, источаемую зеленью гор и морским простором, то возникающие мысли и чувства начинают звучать в совершенно иной тональности, чем те, что рождались над этими же текстами прежде, «на севере диком».
Там, в неблагословенной Угрюм-стране, при «старом прижиме» советской государственной философии «необщее выраженье» философского лица Мераба поражало его читателей и слушателей как гром среди ясного неба. Я это почувствовал еще студентом, когда слушал его лекцию у нас, в аудитории философского факультета ЛГУ, на стрелке Васильевского острова. Будучи первокурсником или второкурсником (точно не помню), я едва преодолел робость перед светилом и пролепетал какой-то наивный вопрос. И услышал строгий, чеканный, неподражаемо велеречивый ответ мэтра, который до сих пор звучит у меня в ушах.
В нем было что-то чуждое духу государственной философии, подменившей истинно интеллектуальную жизнь теми словесными круговращения, которые она совершала в самом нижнем, девятом, инфернальном круге железной идеологической воронки марксизма-ленинизма. Чтобы вырваться оттуда, нужно было чудо – чудо избранности своей духовной судьбы и сознание невероятной обособленности, особенности, отдельности собственного духовного пути. Такой ообсобленности, казалось бы, неоткуда было взяться в жизни и судьбе сына сталинского военного политработника, выпускника философского факультета МГУ, этой цитадели КПСС и главной кузницы идеологических кадров высшей квалификации, комсомольского секретаря курса, автора дипломной работы о Марксе и двух, сугубо марксистских диссертаций, заведующего отделом редакции журнала «Проблемы мира и социализма». При такой плотной вовлеченности в марксистскую идеологическую среду у ММ было крайне мало шансов вырваться из воронки идеологического ада. Но он вырвался. Его живая, сильная мысль, которой было нечем дышать в марксистско-ленинском умственном inferno, все-таки прорвалась на волю. Неведомая высшая сила, как будто, опустила в преисподнюю тонкую веревочную лестницу, связанную из идей феноменологии, экзистенциализма, персонализма, из библейских образов и художественно-интеллектуальных открытий мировой литературы. По этой спасительной вертикали мысль ММ выкарабкалась из идеологического морока на свет Божий, «забросила за хребет» весь марксизм-ленинизм, выпрямилась, задышала в полную силу и двинулась вперед своим собственным путем.
Уникальность личности философа стала еще очевиднее после его смерти. Существует один небольшой текст, который помогает оценить масштабы понесенной утраты. Приведу его полностью: «Хорошо известен и часто цитируется исторический анекдот о встрече в 1934 году на одном правительственном приеме Давида Гильберта и министра науки, воспитания и народного образования Бернгарда Руста. Гитлеровский министр поинтересовался у профессора, как обстоят дела с математикой в Гёттингене после того, как она была освобождена от еврейского влияния. «Математика в Гёттингене?» – переспросил Гильберт. – «Ее больше нет, господин министр» [Beyerchen, 1982 S. 59]»[1].
Когда мне попался на глаза этот текст от Евгения Берковича, то сразу же пришла в голову мысль о Мамардашвили. Ведь, если б сегодня кто-то удосужился спросить, как, мол, обстоят дела с философией в России после 1990 года, года смерти Мераба Мамардашвили, то ответ напрашивается только один: «Её больше нет». И, кажется, в обозримом будущем уже больше не будет, поскольку на почве крайнего духовного оскудения, в которое погрузились государство, массы, мораль, культура, интеллигенция, способность к беспрепятственному произрастанию сохранили только философские сорняки. Только им комфортно в сумрачной атмосфере региональной цивилизации, зависшей на краю небытия.
Феномен ММ – это плод духовного сопротивления тотальному насилию мирового Скотопригоньевска над душами и умами людей. Сам Мераб утверждал, что ему «повезло жить в тоталитарном обществе». Это был нарочитый, вызывающий парадокс, сформулированный сильной личностью нонконформистского склада, ценящей истины, согласно которым «железный млат куёт булат». Внутреннее сопротивление железному натиску государственной машины вывело ММ, по его словам, «на благой путь истинной философии». Более того, он на этом не остановился, поскольку философская мысль, позволившая ему, как бы, родиться заново. стала для него остро заточенным инструментом, интеллектуальным буром, позволявшим неустанно вгрызаться в окружающую тьму и пробиваться к свету.
Чтобы подобный прорыв состоялся, требовалось важное условие, суть которого ММ выразил в привычной для него образно-афористичной форме: «Мысль должна иметь мускулы». Его собственная мысль обладала мощной мускулатурой. Правда, это её свойство влекло за собой весьма сложную проблему. Ведь если мысль, обладающая мускулами, не имеет перед собой абсолютных, т.е. безупречно истинных ориентиров, она способна стать источником зла и натворить много бед. Именно это происходило с мускулистыми, но ложно ориентированными мыслями таких интеллектуальных кумиров, как Шопенгауэр и Штирнер, Маркс и Ницше.
Переживания ММ, связанные с динамикой вынужденного духовного сопротивления диктатуре официального безмыслия, побуждали его постоянно размышлять о жалкой и страшной судьбе тех, кто к такому сопротивлению был не способен. Их он называл носителями непомысленных мыслей, полурожденными обитателями замогильного мира, существами из тоталитарного ада, зависшими между сном и явью, жизнью и смертью, обреченными принимать за чистую монету навязываемое государством «систематизированное безумие», упакованное в «систематизированную ложь».
Размышления о методе Пруста-Мамардашвили,или В поисках утраченного Бога
 Прустовский метод замедленного скольжения созерцающей мысли по поверхностям феноменов, вещей, процессов пришелся по душе ММ. Его кавказский темперамент оказался разбавлен тепло-хладной рефлексией французского эстета-созерцателя. Отчетливо обозначился философский жанр, в котором зоркая мысль ММ увидела для себя возможность вести себя подобно кошке, играющей с мышкой. Выжидающее, неспешное высиживание, терпеливое выслеживание временами прерывалось резким интеллектуальным скачком, и в цепких лапках прирожденной охотницы за идеями оказывался либо очередной проницательный пассаж, либо звучный философский афоризм. В отличие от Пруста, не слишком склонного к образованиям из текучих стихий потока сознания кристаллически-афористических словесных форм, ММ владел таким искусством в совершенстве. И это притягивало читателей и к его публичным выступлениям и по сей день продолжает притягивать к себе поклонников его текстовых презентаций.
Прустовский метод замедленного скольжения созерцающей мысли по поверхностям феноменов, вещей, процессов пришелся по душе ММ. Его кавказский темперамент оказался разбавлен тепло-хладной рефлексией французского эстета-созерцателя. Отчетливо обозначился философский жанр, в котором зоркая мысль ММ увидела для себя возможность вести себя подобно кошке, играющей с мышкой. Выжидающее, неспешное высиживание, терпеливое выслеживание временами прерывалось резким интеллектуальным скачком, и в цепких лапках прирожденной охотницы за идеями оказывался либо очередной проницательный пассаж, либо звучный философский афоризм. В отличие от Пруста, не слишком склонного к образованиям из текучих стихий потока сознания кристаллически-афористических словесных форм, ММ владел таким искусством в совершенстве. И это притягивало читателей и к его публичным выступлениям и по сей день продолжает притягивать к себе поклонников его текстовых презентаций.
Для ММ Марсель Пруст – репетитор, у которого он стал брать уроки ауторефлексии. В результате художественная интуиция Пруста превратилась у ММ в интуицию интеллектуальную, в инструмент прикосновений к самым сложным формам сущего и должного. Одновременно она становится для него и предметом самого пристального исследования. Он методично анатомирует как формы, в которые она облекается, так и содержимое этих форм.
Своим опытом прочтения Пруста, ММ продемонстрировал, что философу с эпистемологическими наклонностями вполне пристало вторить писателю-психологу, хотя бы на уровне метода. И в этом нет ничего удивительного. Ведь интеллектуалу не возбраняется брать уроки ауторефлексии у кого угодно и черпать материал для рефлексивных этюдов отовсюду. Ахматовская констатация «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда» не ограничивается пределами поэзии, но распространяется и на философию и вообще на всё социогуманитарное познание. Мир не устает изумляться тому, из какого идейного сора, из какой кровавой грязи выросли «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы». Более того, этим дело неь ограничилось: в XIX-XX вв. на мощных, ветвистых кронах великого пятикнижия Достоевского начали распускаться метафизические цветы и произрастать философские плоды – бесчисленные метафизические, экзистенциальные, этические, теологические идеи крупных мыслителей с мировыми именами.
Никто не станет спорить, что моралист имеет право черпать полными пригоршнями, например, из «Опытов» Монтеня, что социологу никто не запрещает пастись на злачных литературных пажитях романов Бальзака. Гегель в своё время сумел самым блистательным образом воспользоваться «Племянником Рамо» Дидро и создать на почве литературного шедевра свой философский шедевр – раздел о «разорванном сознании» в «Феноменологии духа». И похоже, что не попадись ему на глаза гетевский перевод новеллы Дидро, у нас сегодня могло бы не быть этих, может быть, самых ярких страниц его сложнейшего трактата, этого философско-анатомического атласа, изображающего расхристанную, разъятую на части душу и жалкие останки разбитого вдребезги духа ни во что не верующего фаустовского человека, являющегося не только гегелевским, но и нашим современником.
Мамардашвили обошелся подобным образом с романной эпопеей «В поисках утраченного времени». То, что иным читателям представлялось у Пруста вполне заурядным, ММ дебанализировал, решительно углубил, поместил в сложнейший контекст философской аналитики, в многоцветное средоточие смысловых интерференций.
В отличие от французского романиста, скитавшегося в поисках утраченного времени, грузинский философ двинулся в ином направлении, смысла которого он, похоже, поначалу не осознавал с достаточной отчетливостью. Лишь на излете его творческой судьбы и земной жизни стала проступать истинная суть этой духовной траектории, оказавшейся поисками утраченного Бога.
Философу, разорвавшему с Марксом, нужна была для его интеллектуальной жизнедеятельности внутренняя опора, отвечавшая творческим устремлениям энергичного, сильного, ищущего ума. И одна из таких опор была найдена там, где никому, кроме ММ, не пришло бы в голову её искать. То, мимо чего прошло бесчисленное множество читателей Пруста, ММ увидел, выхватил и облёк в собственные аналитические формы, отвечавшие сокровенным нуждам своей экзистенции.
Суть интеллектуальной интриги, завязавшейся между ММ и Прустом, сосредоточилась прежде всего в самом ММ. Если кто-то ищет в лесу только грибы, то он видит лишь их, а всё прочее проходит большей частью мимо его внимания. Если мыслитель настроил свой интеллект на определенную поисковую волну, то этот, сугубо индивидуальный настрой позволит ему селекционировать литературный материал строго определенным образом и вылущивать из него только то, что отвечает его творческим интенциям. Поэтому для одаренного философа практически любой добротный художественный материал неисчерпаем. Это похоже на то, как Чехов, сидя как-то за столом, заявил собеседникам, указывая на пепельницу: «Хотите, я напишу рассказ, например, о пепельнице». И никто не сомневался в том, что такой рассказ способен появиться, и что он будет не столько о пепельнице и даже совсем не о ней, оказавшейся лишь внешним поводом, а о грешной, прекрасной и ужасной человеческой жизни. Если ММ размышляет о Прусте, то это большей частью рассуждения не о Прусте, а о жизни ищущего ума, о философских похождениях незаурядного интеллекта. Пруст же, не в обиду ему будь сказано, стал для ММ почти тем же, чем пепельница для Чехова, - поводом, подтолкнувшим творческое «я» философа к пространному разговору об эпистемологических приключениях человеческого ума. И в этой творческой интриге в полной мере проявился известный трюизм о первичности образа и вторичности абстрактной мысли, о способности литературы опережать философскую рефлексию, стимулировать её деятельность, давать ей материал, топливо, энергию для творческих полетов.
Пруст – истинный француз, то есть человек, по преимуществу, душевный. Дух и вера спали в нём непробудным сном. Это обстоятельство существенно ограничило круг его мировосприятия, заставило сосредоточиться исключительно на своей душевной жизни, превратило именно её в главный предмет художественного и психологического микроанализа.
Для ММ эта особенность метода Пруста имела двойственные, крайне противоречивые последствия. С одной стороны философ нашел в писателе то, что искал, - метод неустанных рефлексивных кружений мысли-бабочки вокруг свечи, сгорающей в пламени собственных переживаний и мыслей. Можно сказать и так: совершается то, что происходит в операционной хирурга, когда тело пациента накрывается простыней и в ней вырезается квадрат, ограничивающий пространство оперативного вмешательства в жизнь распростертого тела. ММ, подобно Прусту, отстранился от жизни духа и целиком сосредоточился на прочной сцепке пульсаций души с жизнью интеллекта. Философ и прежде питал к ним неподдельный интерес, но опыт Пруста его невероятно ободрил и вдохновил своими практическими уроками аналитической микроскопии внутренних движений неторопливого ума, скользящего по извивам души, созерцающей мир. В результате ММ фактически стал Прустом в философии и прежде всего в эпистемологии и экзистенциалогии. Он научился так же, как и Пруст, бесконечно долго кружить вокруг любого, даже самого крошечного, микроскопического акта интеллектуальной жизни. Но в отличие от Пруста, ММ умел усматривать отображение мироздания в каждой капле воды и видеть «небо в чашечке цветка». Философский склад ума не позволял ему оставаться у подножия факта, предмета, феномена и заставлял мысль выходить на уровень предельных обобщений. Там, где Пруст оставался только психологом, мысль ММ устремляется в пределы экзистенциалогии и даже онтологии. И в этих своих устремлениях она приближается к рубежам, за которыми начинаются области духа, простираются обиталище трансцендентного Бога. Ведущая себя достаточно уверенно в контекстуальных пространствах экзистенций, мысль ММ, как правило, не заходит на территории трансценденций, а продолжает бродить вдоль их границ. Она может догадываться о многом из того, что происходит там, по ту сторону, в запредельности, в ином измерении бытия. Но для преодоления заветного рубикона ей не достает веры, которая могла бы легко перенести её в тот мир, где Бог перестает быть для человека далеким, абстрактным, схематичным, условным, чужим «богом философов», а становится близким, личным Богом, живой Личностью, родным Отцом, с Которым всегда можно поговорить о самом важном и сокровенном, и у Которого всегда есть для тебя ответы на самые трудные и сложные вопросы.
Духовный странник
Размышляя о Достоевском, Мамардашвили писал, что главная проблема его героев «состоит в том, чтобы нечто, – что принято, что красиво, что добро, – выросло из меня самого. Только тогда я могу это принять, в отличие от состояния человека без корней. А корни, как и полагается корням, уходят в темноту. В ту темноту, которая у каждого своя, невидимая другим»[2].
Здесь видно, как мысль ММ выдвигается на важную поисковую траекторию. Да, существует тип человека нерефлексирующего, неукорененного в культуре, насыщаемого глубинной тьмой своего «подполья». Но существуют также и люди, подобные огромным, пышным деревьям. Их отличают, помимо мощных земных корней, прежде всего гигантские кроны, устремленные в небеса. Самое прекрасное в таком древе – именно крона, соединяющая земное с небесным, личное с сверхличным, экзистенцию с трансценденцией, человеческое с Божьим. И эта крона именуется духом, верой, духовностью.
Главная проблема героев Достоевского – в роковой неизбежности осознания обреченности попыток взрастить нечто из самих себя, из своей экзистенции. Решившихся двинуться этим путем Родиона Раскольникова или Ивана Карамазова поджидали жестокие поражения. Несравнимо плодотворнее судьбы таких героев, как Зосима, Алеша Карамазов, Дмитрий Карамазов. Их экзистенции не самодостаточны. В них пробуждается и решительно заявляет о себе совсем иное начало, заставляющее их томиться как раз тем, что когда-то успело вырасти из них самих и заполнить их экзистенции. Последние перестают вмещаться в пределы прирожденного антропоцентризма. Иллюзии самодостаточности собственных персон превращаются в подобия тесных детских одежд. Пробуждается духовная жажда по какому-то, пока неведомому простору, по высшей свободе. Просыпается желание вырваться за пределы своей экзистенции, тяготение к сверхличному, запредельному, трансцендентному. Экзистенция пускается в поиски трансценденции, и этот дух исканий заставляет человека поначалу философствовать, а затем и богословствовать. Постепенно приходит понимание того, что телу и душе необходим еще и дух, что культурные корни человека и ствол его личности существуют не ради самих себя, а живут, развиваются, укрепляются для того, чтобы разрасталась крона духа, способная цвести и плодоносить.
И здесь нужно отдать должное философскому «я» ММ: в последние годы его жизни оно в своем духовном движении и росте уже практически вплотную приблизилось к тем границам, где заканчивается философствование и начинаются богоискательство и богословствование, где бытие Бога превращается из гипотезы в аксиому и где экзистенция обретает внутреннюю готовность раствориться в трансценденции.
Если учитывать всё это, то перестает казаться курьезом любопытное свидетельство, опубликованное Тамарой Дуларидзе. Она писала: «Морозным февральским утром 1991 года в маленькой деревенской церкви под Вильнюсом я услышала как священник в алтаре назвал непривычное здесь имя - Мераб. После службы я осмелилась спросить у него, какого Мераба он поминал. «Умер православный богослов, - ответил он, - я слышал его два раза по радио «Свобода». Не знаю, что именно передавала ему «Свобода», эта наша общая тайна - всех верующих, вольнодумцев и любителей джаза в СССР, - но незнакомый с Мерабом Мамардашвили батюшка услышал то, чего не расслышали самые близкие к нему люди, но что теперь все явственнее проступает в его трудах, лекциях и размышлениях последних лет».
То есть, получается, что наиболее чуткие слушатели выступлений ММ смогли уловить явные знаки христианского миросозерцания в словах того, к кому носители реликтового умственного советизма, сочинители казенных энциклопедий и словарей до сих пор продолжают прилагать трафаретную формулу «советский философ». Их не смущает, что данное словосочетание состоит из двух взаимоисключающих понятий и образует смысловой нонсенс. Ведь если ты – советский человек, т.е. продукт тоталитарной системы насильственного единомыслия, то ты уже не философ, не свободно мыслящая личность, а только идеолог и пропагандист высокой квалификации, служитель культа добровольного рабства. Если же ты – философ, т.е. одухотворенный мыслитель, обладающий внутренней свободой, не привязанный к государственной идеологии, то «советскость» не имеет к тебе никакого отношения.
Вильнюсский священник был не прав и вместе с тем прав. Конечно же, ММ не являлся ни православным, ни богословом. Вряд ли и сам он считал себя таковым. Но в словах пастыря присутствовала не столько некая дефинитивная констатация, сколько отсылка к углубленному размышлению. Ведь ММ не являлся ни убежденным богоотрицателем ни, тем более, активным богоборцем. Он был человеком пути, духовным странником, ушедшим от атеизма, направившимся прочь от него, но не успевшим придти к Богу, то есть уверовать, стать полноценным христианином. В нем присутствовали признаки богоискателя, искавшего Бога, но увы, не нашедшего, не успевшего Его найти.
На пути к «неведомому Богу»
Перефразируя Симону Вейль, можно сказать, что трансцендентная реальность – это то, что выходит далеко за границы нашего разума и понимания, но при этом заставляет нас понять нечто крайне важное в нас самих и в нашей судьбе. Мерабу Мамардашвили Бог был нужен как воздух. И ощущая эту духовную нужду, он двигался в своей интеллектуальной жизни тем путём, который был совершенно чужд его философскому окружению в Москве. Плодотворность его духовной траектории подтверждают те неординарные философские находки, которыми переполнены его лекции, ставшие текстами. Основная масса коллег дружной толпой шествовала по затоптанной дороге атеизма-материализма, где уже ни что живое не произрастало. Тех, кого угнетал этот мертвый скотопригоньевский тракт, было очень мало. И ММ был одним из них, двинувшимся своей, неисхоженной тропой интеллектуального нонконформизма, где, куда ни глянь, от плодов гнулись деревья, от ягод клонились стебли трав. Искалеченные марксизмом коллеги, скованные его цепями, не способные последовать примеру ММ, удивлялись, как это ему удавалось так интересно мыслить и рассуждать. А всё было просто: он сумел должным образом воспользоваться своей отвоеванной внутренней свободой, а они нет.
Для всех, кому ММ интересен как мыслитель, крайне важно понять, что же на самом деле происходит с человеком, которому его встреча с Богом крайне необходима, но невозможна, чьё время минуло, а заветная встреча так и не состоялась, чья земная жизнь закончилась прежде, чем возможность стала реальностью, то есть до того, как вероятный теолог успел стать действительным, состоявшимся теологом.
В сущности перед нами разворачивается экзистенциальная драма, повествующая о странном типе богоискателя, не нашедшем Бога. ММ вполне может быть причислен к тому типу посещавших афинский ареопаг древних любомудров, которые «ни в чем так охотно не проводили время, как в том, чтобы слушать или обсуждать что-нибудь новое» (Деян.17,22). Именно перед ними выступил апостол Павел, сказавший: «Уважаемые афиняне, по всему вижу, что вы очень набожны. Когда я ходил и осматривал ваши святыни, нашел я жертвенник, на котором написано: „НЕВЕДОМОМУ БОГУ". Именно Этого Бога, Которого вы, не зная, почитаете, я и возвещаю вам. Бог, сотворивший мир и всё, что в нем, Он, Властелин неба и земли, не в рукотворных храмах обитает. Что могут сделать для Него люди своими руками?! Он ведь ни в чем не нуждается — Сам дарует Он всему жизнь, дыхание да и всё остальное. 0н не только создал все народы от одного человека, чтоб всю землю они населили, но и заранее определил для них точные времена и пределы обитания. И это с тем, чтобы они искали Бога, пусть даже ощупью шли к Нему и могли найти Его, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо в Нем мы живем и движемся, Им существуем, как сказал об этом один из ваших поэтов: „Ведь все мы — дети Его" (Деян.17, 22-28).
Ключевое место, сердцевина этого монолога - мысль о том, что Бог создал все предпосылки, все условия для того, чтобы человек искал Его, двигался в своей духовной жизни по направлению к Нему и нашел Его. Препятствий для богоискательской деятельности нет ни в Боге, ни в созданном Богом миропорядке. Они сосредоточились только в самих людях, в их поврежденной грехопадением природе.
ММ, в отличие от истинно «советских» философов, искал Бога, продвигался к Нему. И хотя шел он ощупью, наугад, часто окольными путями, ему удалось не заблудиться, не застрять в тупике только потому, что неведомый ему Бог Сам постучался в двери его дискурсивных построений. И философ не мог не слышать этого стука. Однако, увы, он так и не смог открыть Ему двери, поскольку для этого нужна была вера, единственный ключ, которым такие двери отворяются.
Бог, посетивший территорию политического дискурса
При попытках Мераба Мамардашвили ответить на самые фундаментальные вопросы бытия, вроде таких: «Как же тогда всё происходит?», в его распоряжении оставались лишь уклончивые, странноватые для его проницательного ума формулы такого рода: «Это делается само собой посредством случайных комбинаций чего угодно с чем угодно».
Получалось, что некая безличная, безликая сила (судьба? рок? природа?) играет в кости, и человеку остается лишь довольствоваться выпадающими на его долю случайными и вместе с тем судьбоносными комбинациями заданных реалий, условий, детерминант.
Однако в рассуждениях такого рода присутствует фермент философского лукавства. Они выглядят как серии уловок, которые, как и всякие уловки, не надежны и в любой момент могут отказаться служить. На фоне фундаментальных определений библейской онтологии, не предполагающей ничего случайного, пестрота и разноголосица философских апологий случайностей выглядит едва ли не смехотворной. Однако чтобы отказаться от понятия случая как мирообъяснительной категории, необходимо покинуть пределы антропоцентричного дискурса, пройти через метанойю, войти в пространство дискурса теоцентричного и принять принципиально иную картину мира, где всё выглядит совершенно другим, где работают уже иные, отнюдь не платоновские, декартовские, кантовские или хайдеггеровские объяснительные принципы. И неуёмная мысль ММ медленно, но неотступно приближалась к решающему рубежу и переломному моменту. До поры, до времени для ММ, духовно пребывавшего в промежуточном состоянии канатоходца, уже покинувшего мир атеизма, но еще не достигшего мира христианской веры, его «неведомый бог» был не Личностью, не живым библейским Богом Аврама, Исаака и Иакова, а некой безличной сила, дающей о себе знать везде, в том числе в мышлении и познании. Но как обращаться с этой силой, ММ не знал. Мысль, не поддерживаемая верой, натолкнувшаяся на эту необозримую величину и непреодолимую силу, неизбежно зависала в состоянии нерешительности и неопределенности. Разуму ничего не оставалось, кроме того, как ограничиваться общими философскими рассуждениями и ретироваться на хорошо распаханные угодья привычного антропоцентризма, где Богу издавна отведено скромное место среди тех гипотез, в которых философы не слишком нуждаются.
Однако переломный момент всё-таки наступил. Стучащийся в дверь Господь был приглашен мыслителем не в его личные философские апартаменты, а на территорию его публичного политического дискурса, впрочем, не лишенного философской окраски. В Тбилиси, на первом съезде Народного фронта Грузии ММ заявил: «Даже такое святое понятие, как Родина не может быть для нас, христиан, выше Истины, которая есть Бог».
В этой принципиальной декларации, звучащей в духе христианской политической теологии, ММ поставил Бога не только выше своей родной Грузии, которую очень любил, но и над собственной личностью и жизнью, над философией, культурой, политикой, т.е. над всем сущим и должным.
Деизм и анти-деизм: изгнанный Бог возвращается из изгнания
Позиция Мамардашвили имеет некоторое сходство с деизмом, этим промежуточным состоянием душ и умов, зависших между безверием и верой. Характерный для европейских и российских интеллектуалов XVIII-XIX веков, деизм не отрицал Творца, но отнимал у Него все властные полномочия и вытеснял Его далеко на периферию общей картины мира. Отношение деистов к Создателю походило на то, как относились к Наполеону, сосланному на о. Св. Елены, его срвеменники: немалое число европейцев продолжали видеть в нем, лишенном императорских полномочий, императора.
Деисты полагали, что движутся в ногу со временем. Им представлялось, что не за горами приближающаяся «смерть» Бога, весть о которой с таким воодушевлением распространяли по всему миру поклонники Ницше. Мало кого из них всерьез беспокоила мысль о том, что в действительности эта злая весть была лживым наветом, возведенным на бессмертного Миродержца. Причина подобного затмения умов заключалась отнюдь не в Боге, а в том, что происходило с самими людьми. Для миллионов тех, кто закрыли свои сердца и души для Господа, Его голос перестал звучать, и свою глухоту они стали выдавать за «молчание», «отдаление», и даже «смерть» Бога. Так деизм продолжал делать своё дело - превращать верующий разум мыслящих людей в неверующий рассудок, способный лишь имитировать мыслительную деятельность на тесном пятачке интеллектуального пространства, отгороженного от Истины.
Между тем, случилось непредвиденное: в ход исторических событий, в логику вещей вмешалось нечто отрезвляющее. Деистов, перекочевавших из ХIХ века в век ХХ, поживших в нем, хлебнувших его прелестей, сполна настрадавшихся от невиданных потрясений и духовного удушья, стали посещать непривычные мысли о том, что без Бога всё идёт как нельзя хуже, что без Него, похоже, не обойтись и что было бы совсем не плохо, если б Он вернулся из «изгнания». Так у идеи деизма началась вторая жизнь: она приобрела обратный знак и противоположную направленность. Нашлись интеллектуалы, которые завели речь о целесообразности аннулирования философских указов об «импичменте» Бога и о необходимости возврата Ему прав монаршей власти над мирозданием, над всем сущим и должным.
Мераб Мамардашвили, обладавший феноменальной интеллектуальной интуицией, философской прозорливостью, чуткий к духовным процессам своего времени, оказался одним из тех, кто двинулся по тропе, некогда протоптанной деистами. Но это было уже движение вспять, то есть не прочь от Бога, а навстречу Богу. Не потому ли для него оказался так важен опыт философских штудий именно деистов Декарта и Канта, а не, скажем, Шопенгауэра и Ницше. Декарт был номинальным католиком, а Кант – номинальным протестантом, предпочитавшими иметь дело не с библейским Богом Авраама, Исаака и Иакова, а с умозрительной конструкцией вымышленного «бога философов», послушной марионеткой, обслуживающей умственные нужды рефлексирующих интеллектуалов. И хотя идеи обоих любимцев ММ были устремлены в ХХ век, сам он отправился прочь из него. Двигавшиеся в противоположных направлениях, навстречу друг другу, Декарт с Кантом в итоге встретились с ММ, и эти две встречи стали определяющими событиями в философской жизни последнего. Он брал у них уроки деизма не для того, чтобы стать деистом, а чтобы, переосмыслив содержимое деизма, выйти в конце концов, на путь катарсиса и метанойи, очищения и перемены ума, на траекторию анти-деизма. Иной перспективы он для себя уже не видел. Всё прочее вело в тупики атеизма с его атмосферой интеллектуальной безнадежности, где он уже успел провести немало времени и где ему было неинтересно, скучно, душно, тесно.
Мамардашвили часто называют «российским европейцем». В этом качестве его вполне можно поставить в один ряд с другим «российским европейцем» - героем романа Достоевского «Подросток» Андреем Петровичем Версиловым. Достоевский создал яркий тип интеллектуала-либерала, внутреннего эмигранта, едва не ставшего и эмигрантом «внешним», буквальным, намеревавшимся навсегда остаться в Европе. Побуждало его к тому некое остро переживаемое чувство, природу которого он затруднялся определить и которое называл тоской. Она была для него совершенно невыносима в России и лишь в Европе её острота притуплялась, хотя сама она и не исчезала. Версилов тосковал о потерянном Европой Боге, наблюдал её всё более утяжеляющееся духовное состояние и признавался, что временами испытывал такое чувство, будто только затем и приехал в Европу, чтобы похоронить её. В его глазах она превратилась в кладбище духа, в духовную развалину, в собрание старых камней, осколков старого Божьего мира. Притягивавшие его руины былой веры, именуемые философским деизмом, красноречиво свидетельствовали о духовном тонусе той интеллектуальной, творческой элиты, которая определяла развитие культуры XIX века.
Мамардашвили тоже испытывал состояние, похожее на версиловскую тоску. Правда, он называл его одиночеством, но не социальным, а духовным, внутренним, экзистенциальным. Философия служила ему чем-то вроде лекарства от него. Впрочем, полного исцеления не приносили ни декартовские рефлексии, ни кантовские вариации, ни прустовские штудии. Корни духовного неблагополучия уходили в такие глубины, куда интеллект не мог проникнуть.
ММ, в отличие от Версилова, до поры до времени не связывал свою внутреннюю жизнь с проблемами безверия и веры. Для героя же Достоевского подобные связи, сравнения, сопоставления были не просто естественны, но совершенно необходимы. Тем более, что он был не одинок в своей тоске, констатируя, что в России подобных ему духовных странников, неуёмных, снедаемых похожей экзистенциальной тоской, набиралось около тысячи человек. Говоря о принадлежности к ним и трезво оценивая своё духовно-интеллектуальное состояние, Версилов признавался: «Вера моя невелика, я — деист, философский деист, как вся наша тысяча». По его словам, он тосковал не столько о Боге, сколько об идее Бога. И в самоопределении своей духовной идентичности это уточнение было весьма характерным, поскольку первый случай (тоска о Боге) предполагал жажду веры, а для второго (интеллектуальная потребность в идее Бога) было достаточно одного лишь сугубо умственного голода. «Положим, - говорит Версилов, - я и не очень веровал, но все же я не мог не тосковать по идее. Я не мог не представлять себе временами, как будет жить человек без Бога и возможно ли это когда-нибудь. Сердце мое решало всегда, что невозможно; но некоторый период, пожалуй, возможен… Для меня даже сомнений нет, что он настанет».
И это время пришло, спустя несколько десятилетий после Достоевского, вложившего в уста Версилов многие свои мысли и переживания. Явилось оно именно в качестве периода, т.е. некоторого исторического отрезка, имеющего начало и конец. Разница же в мироощущениях Версилова и Мамардашвили заключалась в том, что литературный герой был расположен автором в преддверии этого периода, а реальному философу довелось жить на его излете. Первый очень не хотел очутиться внутри него, а второй сполна ощутил метафизическую духоту от пребывания внутри «замогильного мира» тоталитарной идеологии. В Версилове оставались лишь крупицы веры, а в Мамардашвили только еще готовились проклюнуться её ростки. При этом живительная сила последних, еще даже не успевших достичь степени «маковых зерен» веры, была столь велика, что вывела ММ вон из ряда «советских философов» и утвердила его фигуру на авансцене духовной жизни агонизировавшей региональной цивилизации.
В сущности, обе фигуры, Версилова и Мамардашвили, маркировали весьма важные рубежи в исторической эволюции российского интеллектуализма. Версилов как тип знаменует тот поворотный момент, когда человек, привычно скользящий по секулярной наклонной в сторону полного, тотального безверия, вдруг внезапно останавливается. Его поражает внезапно открывшееся понимание того, что впереди нет ничего, кроме конечного пункта всего и вся, точки абсолютного духовного нуля, полного замерзания ума и души, духовной смерти. Если сию же минуту не остановиться, не развернуться и не двинуться вспять, то личная экзистенциальная катастрофа неминуема. В результате Версилов, уже заслышавший приближающиеся звуки той ницшевской философской повозки, в которой обезумевшая «лягушонка в коробчонке» собралась громыхать на весь мир о привидевшейся ей «смерти» Бога, застывает в глубоком раздумье. И в этом отношении его фигура и позиция символичны. Создается впечатление, будто для философских интеллектуалов-деистов, приблизившихся к краю пропасти, до которой оставался один лишь шаг, прозвучала чья-то властная команда: «Замри!». Это был единственный шанс не погибнуть, спастись. И хотя состояние, производное от ситуации, когда вперед нельзя, а назад не хочется, тяготило, и Версилов, привыкший к духовным странствия, называл его тоской, оно для него не было мучительным. Совсем напротив: экзистенциально-психологический парадокс одолевавшей его тоски заставлял русского деиста говорить, что в тот период жизни он был счастлив. Так, очевидно, должен чувствовать себя пассажир судна, потерпевшего кораблекрушение, ставший свидетелем гибели и корабля, и команды, но сам оказавшийся выброшенным стихией на берег, спасшимся от, казалось бы, неминуемой гибели.
Нечто подобное переживал и ММ, чьё тоскующее экзистенциальное одиночество было отнюдь не удручающим, не мрачным, не смертоносным, а, напротив, животворным, продуктивным, действующим воодушевляюще. Оно заставляло сосредоточиться на главном, многое переосмыслить, ободриться и двинуться к свету, к Истине, которая есть Бог. Признаки этого духовного просветления явственно проступили в тех ожесточенных тбилисских политических дебатах, когда он неоднократно и настойчиво отождествлял Истину и Бога.
ММ, несущему внутри себя следы марксистской травмированности, было труднее, чем Версилову. Несмотря на прирожденный оптимизм, он не мог не страдать от посещавших его состояний тяжелой задумчивости. Чуткая душа и неуёмная мысль, сумевшие пробиться сквозь пустоту и безмыслие атеизма, но еще не знающие истинного Бога, Которого у них отняли еще в детстве, начали ощущать эту утрату, томиться в застенках навязанного им искусственного метафизического одиночества. Ум, осведомленный о судьбах таких духовных изыскателей, как Декарт, Паскаль, Кант, Чаадаев и др., медленно продвигался к пониманию главной причины своей духовной неустроенности. «Я», готовившееся расстаться со своим прирожденным антропоцентризмом, всё чаще задумывалось о Боге и вере. Привычная интеллектуальная жизнь в разбегающейся Вселенной разлетающихся смыслов, летящих прочь от Бога, неуклонно теряла свою былую привлекательность.
Подобно Версилову, ММ принадлежал к высшему культурному типу тех немногих духовных скитальцев, которым было не слишком комфортно в секулярном пространстве, в той интеллектуальной среде, которая была насыщена пестротой разнокалиберных мыслей, но лишена присутствия духа. Этот тип искателя, жаждущего союза мысли и духа, – может быть, лучшее, если не единственное из того, что может служить очень малым, но всё же оправданием евразийской цивилизации ХХ века, обезображенной тоталитаризмом.
Если в современной Версилову интеллектуальной среде присутствовало около тысячи деистов, то в окружении Мамардашвили анти-деистов было несравнимо меньше. Но они, вопреки мертвящему суховею тоталитарного «мусорного ветра», всё же существовали в литературе и искусстве, в философии и науке. В отличие от «Слепых» Брейгеля, они не скатились в поджидавшую их яму идеологического морока, а развернулись и двинулись в противоположную от атеизма сторону. Именно они сделали всё, чтобы идея деизма преобразилась и обрела противоположный духовный вектор, чтобы парадигму богоотступничества сменила восставшая из праха старая, добрая, классическая парадигма богоискательства, чтобы интерес к идее Бога сменился духовной жаждой, утоляемой общением с обретенным живым, личным Богом.
На примере интеллектуальной биографии ММ можно отчетливо увидеть, как обычная, традиционная негативная траектория деизма совершает крутой разворот на 180 градусов и готовится превратиться в позитивную траекторию богоискательства. Философский разум, как блудный сын, некогда покинувший отчий дом библейско-христианских откровений, но еще ценящий свои духовные корни и знающий, что его взрастили, напитали и продолжают питать живительные соки не только Афин и Рима, но и Иерусалима, в конце концов, откладывает в сторону свою интеллектуальную гордыню, прощается с опостылевшим экзистенциальным одиночеством и устремляется туда, где его ждёт Отец, не земной, а Небесный.
Именно в этой ключевой точке духовного разворота Мераба Мамардашвили настигла физическая смерть. Евангельского, рембрандтовского финала его истории с чертами библейской истории блудного сына, мы не увидели. Осталось не удручающее, не обескураживающее, а лишь скорбное «non finito».
[2]М. Мамардашвили. Лекции о Прусте (психологическая топология пути). Ad Marginem, 1995, с. 173.
В. Бачинин, профессор,
доктор социологических наук
(Грузия)


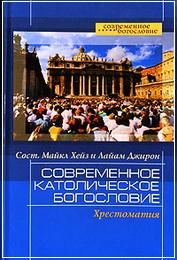


Комментарии
Пока нет комментариев. Будьте первым!