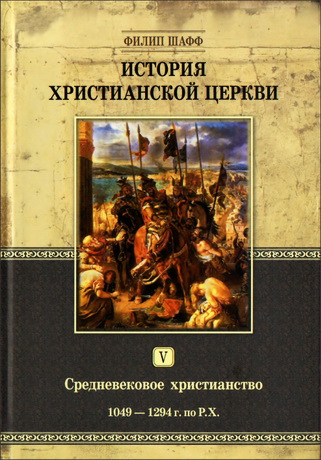
Цвейг - Совесть против насилия - Кастеллио против Кальвина
К 500-летию Реформации
Потомки не смогут постичь, почему нам снова пришлось жить в такой густой тьме, после того как однажды уже настал свет.
КАСТЕЛЛИО.
Об искусстве сомневаться,
1562 г.
"Муха против слона». Поначалу она удивляет, эта собственноручная надпись Себастьяна Кастеллио на базельском экземпляре его полемического сочинения против Кальвина, и проще всего было бы предположить здесь одно из обычных для гуманистов преувеличений. Но в словах Кастеллио не было ни гиперболы, ни иронии. Таким резким сравнением этот мужественный человек хотел лишь ясно показать своему другу Амербаху, сколь отчетливо и сколь трагически он осознавал, какого мощного противника вызвал на бой, открыто обвинив Кальвина в том, что тот из-за фанатичной нетерпимости убил в процессе Реформации человека и тем самым свободу совести. С первых мгновений этого опасного спора, подняв перо, подобно копью, Кастеллио хорошо понимает и бессилие любой чисто духовной борьбы против превосходящей силы, закованной в латы и броню диктатуры, и безнадежность своей смелой затеи. Да и как может безоружный одиночка пойти войной против Кальвина и победить того, на чьей стороне тысячи, десятки тысяч приверженцев, да к тому же еще военный аппарат государственной власти!
Благодаря превосходной организации Кальвину удалось превратить целый народ, все государство, тысячи свободных прежде граждан в жесткий послушный механизм, искоренить всякую самостоятельность, уничтожить свободу мысли ради своего собственного учения. Вся власть в городе и государстве принадлежит ему, все подчинены ему — ведомства и органы, магистрат и консистория, университет и суд, финансы и мораль, священники, школы, палачи, тюрьмы, написанное, сказанное и даже произнесенное шепотом слово. Его учение стало законом, а того, кто осмеливается сказать хоть слово против, сразу же вразумляют тюрьма, изгнание или костер — эти аргументы всякой духовной тирании; все споры блестяще разрешаются благодаря тому, что в Женеве признается только одна истина и Кальвин — пророк ее. Но и далеко за пределы городских стен распространяется зловещая власть этого зловещего человека; города Швейцарского Союза видят в нем важнейшего политического союзника, протестанты всего мира выбирают violentissimus christianus духовным вождем, князья и короли ищут милости главы церкви, который создал в Европе самую мощную, наряду с римской, организацию христианства. Ни одно политическое событие не происходит больше без его ведома, почти ни одно — против его воли: враждовать с проповедником собора св. Петра стало так же опасно, как с императором или папой.
Стефан Цвейг - Совесть против насилия - Кастеллио против Кальвина
М.: Мысль, 1986.-238 с., ил.
Библиотечная серия
Стефан Цвейг - Совесть против насилия - Кастеллио против Кальвина - Содержание
Н. Митрохин. Стефан Цвейг: Кастеллио против Кальвина
ВВЕДЕНИЕ
ЗАХВАТ ВЛАСТИ КАЛЬВИНОМ
"УЧЕНИЕ»
ПОЯВЛЯЕТСЯ КАСТЕЛЛИО
ДЕЛО СЕРВЕТА
УБИЙСТВО СЕРВЕТА
МАНИФЕСТ ТЕРПИМОСТИ
СОВЕСТЬ ПОДНИМАЕТСЯ ПРОТИВ НАСИЛИЯ
НАСИЛИЕ РАСПРАВЛЯЕТСЯ С СОВЕСТЬЮ
КРАЙНОСТИ СХОДЯТСЯ
ОТ АВТОРА
ПРИМЕЧАНИЯ
ЗАХВАТ ВЛАСТИ КАЛЬВИНОМ
"УЧЕНИЕ»
ПОЯВЛЯЕТСЯ КАСТЕЛЛИО
ДЕЛО СЕРВЕТА
УБИЙСТВО СЕРВЕТА
МАНИФЕСТ ТЕРПИМОСТИ
СОВЕСТЬ ПОДНИМАЕТСЯ ПРОТИВ НАСИЛИЯ
НАСИЛИЕ РАСПРАВЛЯЕТСЯ С СОВЕСТЬЮ
КРАЙНОСТИ СХОДЯТСЯ
ОТ АВТОРА
ПРИМЕЧАНИЯ
Стефан Цвейг - Совесть против насилия - Кастеллио против Кальвина - Введение
Себастьян Кастеллио — одинокий идеалист, во имя свободы человеческой мысли объявивший войну этой и всякой иной духовной тирании, кто он? Поистине муха против слона — против фантастически полновластного Кальвина! Никто, ничто — nemo — в смысле общественного влияния, да к тому же гол как сокол, нищий ученый, которому едва удается прокормить жену и детей с помощью переводов и частных уроков, изгнанник на чужбине, без права на убежище и гражданство, дважды эмигрировавший: как всегда во времена всеобщей одержимости, гуманный человек оказывается в бессилии и полном одиночестве меж сражающихся зелотов. Годами этот великий и скромный гуманист ведет самое убогое существование, обреченный на преследования, бедность, вечно стесненный, но и вечно свободный, не связанный ни с одним лагерем, не присягнувший никому из фанатиков. И только после убийства Сервета, услышав властный голос своей совести, он прерывает мирные занятия, чтобы во имя попранных прав человека обвинить Кальвина, — и тогда это одиночество перерастает в героизм. Ведь Кастеллио не защищен, не окружен тесно сплоченной и четко организованной свитой, как его более привычный к боям противник Кальвин, и ни одна партия, ни католическая, ни протестантская, не оказывает ему поддержки, никакие влиятельные персоны, императоры или короли, не простирают над ним, как некогда над Лютером и Эразмом, свою заботливую десницу, и даже немногие друзья, которые им восхищаются, даже они лишь тайком решаются внушать ему мужество. Опасно ведь, опасно для жизни открыто стать на сторону человека, который бесстрашно поднимает голос в защиту обездоленных и угнетенных, в то время как во всех странах ослепление эпохи мучает и травит еретиков, словно загнанных животных, и который, опираясь на единичный случай, раз и навсегда лишает всех сильных мира сею права преследовать за мировоззрение кого бы то ни было на этом свете! Ведь опасно поддерживать того, кто отваживается сохранить ясность и человечность взгляда в один из тех ужасных моментов помрачения разума, какие время от времени переживают народы, и кто осмеливается назвать все эти благочестивые погромы, совершающиеся якобы во славу господа, их истинным именем: убийство, убийство и еще раз убийство! Ведь опасно защищать того, кто, движимый глубочайшим чувством человечности, один лишь не может больше молчать и, страдая от бесчеловечности, взывает к небесам, борясь один за всех и один против всех! Ибо тому, кто поднимает голос против власть имущих и власть дарующих, не следует ожидать широкого признания, учитывая неистребимую трусость нашего земного рода. Так и у Себастьяна Кастеллио в решающий час не было за спиной никого, кроме собственной тени, а при себе ничего, кроме единственного неотъемлемого свойства борющегося художника: непоколебимой совести в бесстрашной душе.
Но именно то, что Себастьян Кастеллио заранее знал о безнадежности своей борьбы и все-таки, послушный голосу своей совести, вступил в эту борьбу — это священное «все-таки» и «несмотря ни на что» на все времена прославит «неизвестного солдата» как героя великой освободительной войны всего человечества. Уже благодаря мужеству одинокого человека, страстно протестовавшего против всемирного террора, борьба Кастеллио против Кальвина должна остаться в памяти каждого мыслящего индивида. Но и по существу поставленного вопроса эта историческая дискуссия выходит далеко за рамки своего времени. Потому что здесь речь идет не только о теологии в узком смысле, не только о человеке по имени Сервет и, конечно, не о решающем разрыве между либеральным и ортодоксальным направлениями в протестантизме: в этом неизбежном столкновении заключается значительно более важный, непреходящий вопрос, nostra res agitur — начинается бой, который под иными названиями и в других формах будет вспыхивать вновь и вновь. Богословская форма всего лишь случайная маска времени, а Кастеллио и Кальвин — только наиболее ощутимое проявление этого скрытого, не непреодолимого противоречия. Неважно, как назвать полюса этого постоянного напряжения: терпимость против нетерпимости, свобода против надзора, гуманизм против фанатизма, индивидуальность против унификации, совесть против насилия — все эти выражения означают по сути своей самое сокровенное и личное наше решение: что считать для себя более важным — человечность или политику, Ethos или Logos, индивидуальное или общее?
От подобной необходимости постоянно разграничивать свободу и авторитет не избавлен ни один народ, ни одна эпоха, ни один мыслящий человек, ибо свобода невозможна без авторитета (иначе она превратится в хаос), а авторитет без свободы (иначе он превратится в тиранию). Несомненно, в основе человеческой природы лежит таинственное стремление раствориться в общности, и неистребимым остается извечное наше заблуждение, будто возможно отыскать некую религиозную, национальную или социальную систему, которая, наконец, справедливости ради дарует всему человечеству мир и порядок. Великий инквизитор Достоевского с помощью жестокой диалектики доказал, что, в сущности, большинство людей боится собственной свободы, и на деле вся эта огромная масса, устав от неисчерпаемого многообразия проблем, от сложностей и ответственности жизни, тоскует по унифицированию мира с помощью окончательного, всеобщего, определенного порядка, который освободит ее от необходимости всякой мыслительной работы. Эта мессианская тоска по освобождению от проблем бытия и есть та первоначальная сила, которая прокладывает путь всем социальным и религиозным пророкам. Стоит только идеалам поколения потерять свой огонь, свои краски, и тут же является человек, способный убедить, не слушая возражений, что ему и только ему принадлежит новая формула, и вот уже доверие тысяч потоком устремляется к предполагаемому спасителю народа или мира — новая идеология (и в этом ее метафизический смысл) провозглашает на земле новый идеализм. Ведь тот, кто дарит людям новую иллюзию единства и чистоты, прежде всего высасывает из них самые святые силы: их готовность жертвовать, их воодушевление. Миллионы как зачарованные готовы позволить взять себя, оплодотворить, даже изнасиловать, и чем больше требует от них подобный провозвестник и пророк, тем больше они оказываются в его власти. В угоду ему они послушно отказываются от того, что еще вчера было их высшей радостью, их свободой, только чтобы с еще большей пассивностью позволить руководить собой, и вновь подтверждается древнее Тацитово выражение «mere in servitium»: в страстном упоении солидарностью народы добровольно отдают себя в кабалу и еще славят тот бич, которым их хлещут.
Теперь для каждого духовно развитого человека в самой мысли о том, что снова существует идея — эта самая нематериальная сила на земле, — способная творить в нашем старом, трезвом, технизированном мире столь невероятное чудо убеждения, заключалось нечто возвышающее его, и он легко впадал в искушение, восхищаясь этими всемирными обманщиками и прославляя их, поскольку им удается управлять косной материей с помощью духа. Однако именно эти идеалисты и утописты почти всегда сразу же после своей победы роковым образом разоблачают себя как самые гнусные предатели духа. Потому что власть приводит к всевластию, победа к злоупотреблению победой, и все эти конкистадоры, столь сильно воодушевившие многих людей своей собственной иллюзией, что те с радостью готовы жить и даже умереть за нее, вместо того чтобы удовлетвориться этим, соблазняются возможностью превратить большинство в абсолют, а свою догму навязать и неприсоединившимся. Они не сознают того, что безусловная истина, если она навязывается силой, становится прегрешением против духа.
А дух — явление, полное таинственности. Неосязаемый и невидимый, как воздух, он как будто бы легко укладывается во все формулы и формы. Это постоянно приводит деспотические натуры к заблуждению, что дух якобы можно как угодно сжать, закрыть, закупорить, а затем спокойно разлить по бутылкам. Но с каждым сжатием возрастает его динамическое сопротивление, и, как раз спрессованный и сжатый, он становится взрывчатым, взрывоопасным: всякое подавление рано или поздно ведет к мятежу. Ибо моральная самостоятельность человечества — и в этом наше вечное утешение! — в конечном счете несокрушима. И до чего же банально и тщетно поэтому всякое стремление свести божественное многообразие бытия к единому знаменателю, пометить человечество черным и белым, разделить его на доброе и злое, на богобоязненных и еретиков, на послушных и враждебных государству, основываясь на принципе, осуществленном с помощью кулачного права! Ведь всегда найдутся независимые духом, которые окажут сопротивление такому насилию над человеческой свободой, «conscientious objectors», решительно отказывающиеся служить всякому насилию над совестью, и никогда эпоха не будет столь варварской, а тирания столь последовательной, чтобы никто не смог избежать массового насилия и защитить право на собственные убеждения от насильников, одержимых только одной, своей собственной, истиной.
И шестнадцатый век знал такие свободные и неподкупные души. Когда читаешь письма гуманистов тех дней, по-братски разделяешь их глубокую печаль из-за растерянности мира перед насилием, взволнованно сочувствуешь их душевному отвращению к тупым, базарно крикливым заявлениям догматиков. Ах, какой ужас охватывает этих просвещенных граждан мира перед бесчеловечными усовершенствователями человечества, которые вломились в их мир, исполненный веры в прекрасное, и теперь с пеной у рта проповедуют свою жестокую ортодоксальность! О, как их воротит от этих Савонарол, Кальвинов, Джонов Ноксов, которые хотят умертвить красоту на земле и превратить землю в семинарию нравственности! С трагической прозорливостью все эти умудренные гуманисты осознают то зло, которое неистовые упрямцы принесут Европе, за этими горячими речами им слышится бряцание оружия, а в ненависти уже предчувствуется грядущая ужасная война. Но, даже зная истину, эти гуманисты все-таки не отваживаются бороться за нее. В жизни почти всегда существует разрыв между идеей и ее воплощением: мыслители не бывают деятелями, а деятели — мыслителями. Все эти трагические, скорбящие гуманисты пишут друг другу трогательные, изящные письма, они стенают за закрытыми дверями своих кабинетов, но никто из них не выступит против антихриста. Время от времени Эразм отваживался послать несколько стрел из укрытия; Рабле[13], прикрываясь шутовским платьем, хлестал бичом яростного смеха; Монтень, этот благородный и мудрый философ, находит в своих «Опытах» самые убедительные слова, но никто не пытается восстать всерьез и предотвратить хотя бы одно-единственное преследование или казнь. Мудрец не должен спорить с фанатиками, считают эти познавшие мир и потому ставшие осторожными люди, в такие времена лучше уйти в тень, чтобы самого не схватили и не сделали жертвой.
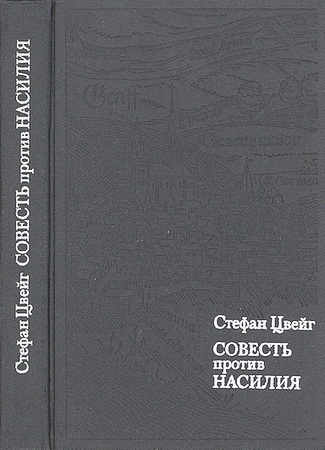
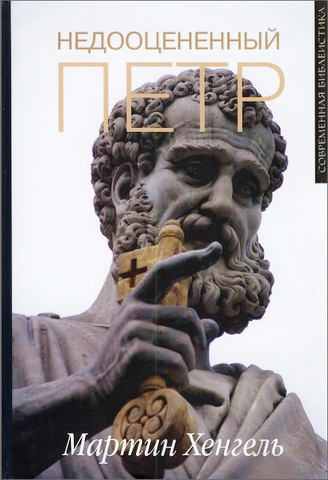
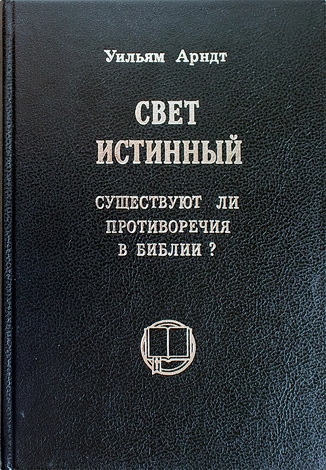
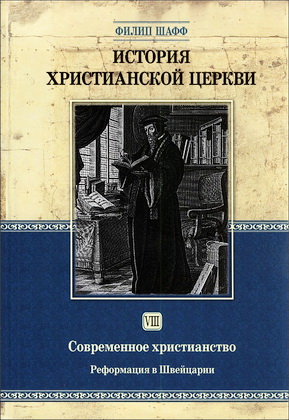

Комментарии (3 комментария)
Дякую. Такі книги дуже рідкісні. Книга варта того, щоб знеї ознайомитись
Цікава і потрібна книга! Дякую! (Хоча поклонникам Кальвіна вона не сподобається).
После краткого ознакомления можно сказать, что книга - демонизация Кальвина. Чтобы понять подход и методы Цвейга стоит почитать рецензию на эту книгу Л.Н. Митрохина. Качать https://iphras.ru/uplfile/root/biblio/2000/Mitrokhin_Relig_kultura.pdf