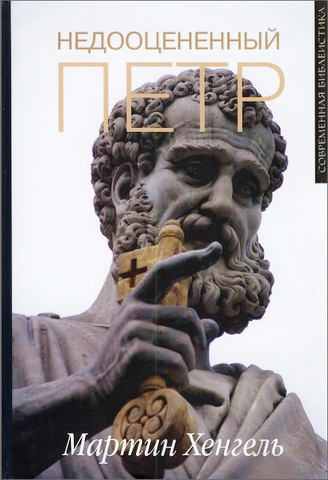
Ле Гофф - Другое Средневековье - Время, труд и культура Запада
Единство статей, собранных здесь, быть может, не более чем ретроспективная иллюзия. Это единство обусловлено прежде всего самой эпохой, эпохой, которую я выбрал для себя четверть века назад, тогда еще не понимая ясно, что меня к ней подталкивает, эпохой, ставшей для меня предметом исследований и размышлений.
Сегодня я скажу, что Средневековье привлекло меня по двум причинам. Во-первых, по соображениям ремесла: я был полон решимости стать профессиональным историком. Большинство наук бесспорно являются делом профессионалов, специалистов. Историческая наука не является здесь исключением. Хотя, как мне кажется, то, что средства массовой информации предоставляют кому угодно возможность говорить, снимать и писать об истории, составляет одну из крупнейших проблем нашего времени, я не стану здесь поднимать вопрос о качестве исторической продукции. Я вовсе не требую монополии для ученых-историков. Дилетанты и популяризаторы истории по-своему привлекательны и нужны; их успех доказывает, что люди сегодня испытывают потребность личного участия в сохранении памяти поколений. Мне бы хотелось, чтобы занятие историей стало более научным и осталось бы при этом искусством. Создание пищи для памяти поколений требует как определенного вкуса, чувства стиля, увлеченности, так и строгости, методичности.
Жак Ле Гофф - Другое Средневековье: Время, труд и культура Запада
Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 2000.—328 с.
ISBN 5-7525-0740-5
Жак Ле Гофф - Другое Средневековье: Время, труд и культура Запада - Содержание
- ПРЕДИСЛОВИЕ
- ЧАСТЬ I Время и труд
- ЧАСТЬ II Труд и системы ценностей
- ЧАСТЬ III Ученая культура и культура народная
- ЧАСТЬ IV К исторической антропологии
ПРИМЕЧАНИЯ
Жак Ле Гофф - Другое Средневековье: Время, труд и культура Запада - Предисловие
История создается с помощью документов и идей, первоисточников и воображения. Однако мне казалось, что историк древности (я ошибался, конечно, по крайней мере, преувеличивал) приговорен к печальной альтернативе: либо довольствоваться скудной добычей из наследия времен, слабо оснащенных для самоувековечения, что означало поддаться соблазну и замкнуться в сухой ученой эрудиции, либо пуститься во все тяжкие и реконструировать прошлое интуитивно.
История близкого нам времени (здесь я также преувеличивал, а то и вовсе ошибался) вызывала у меня беспокойство по причинам обратного характера. Либо избыток документации подавляет историка, сковывая его редукционизмом статистической и количественной истории (если мы хотим извлечь из исторических документов все возможное, история должна включать и то, что не поддается учету, но часто является главным). Либо он отказывается от рассмотрения целого, и мы имеем дело с историей частной, тогда как в первом случае — с историей лакунарной. Между двумя этими крайностями Средние века, в которых гуманисты видели даже не переходную ступень, не промежуточный этап, а заурядную интермедию, лишь антракт между действиями великой истории, провал между волнами времени.
Именно Средневековье показалось мне интереснейшим периодом истории для необходимого союза эрудиции (разве не изучение средневековых хартий и писем от середины XVII до середины XIX века послужило началом научной истории?) и воображения, полет которого имеет прочную, но не связывающую крылья поддержку. Примером для меня, как для историка, был (и всегда им остается) Мишле — человек удивительного воображения, ≪воскреситель≫, как бы тривиально это ни звучало, а кроме того, о чем часто забывают,— человек архивов, вызывающий к жизни не призраки, не химеры, а реально сущее, запечатленное в документах, подобно тому как живая мысль запечатлена в камне соборов. Мишле-историк, хотя и обмолвившийся задним числом, что вдохновлялся одной лишь эпохой Реформации и Возрождения, на деле испытывает симпатию к Средневековью больше, чем к какому-либо другому периоду прошлого.
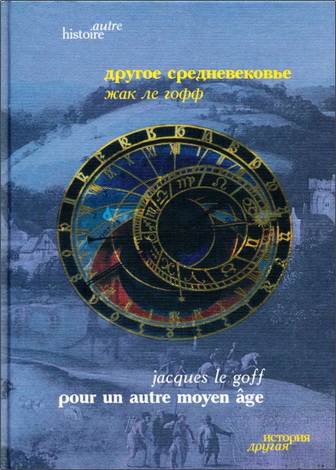

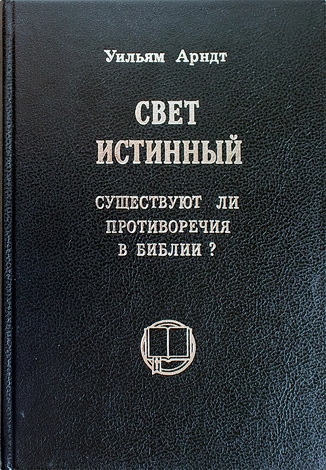

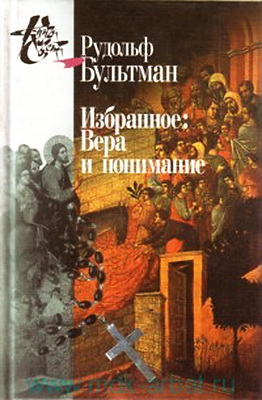
Комментарии
Пока нет комментариев. Будьте первым!