
Тарнавский, Соболев, Горелик - Куропаты
Из показаний Софьи Андреевны Козич, 1925 года рождения, пенсионерки:
— С полной уверенностью я не могу назвать время, когда начали расстреливать людей в нашем лесу — может, с 1937 года, может, позже, но хорошо знаю, что было это до войны. Сначала их возили просто в лес, а потом поставили высокий забор. За ним находилась охрана. Я лично видела одного охранника с собакой. Был он в военной форме, на боку — пистолет в кобуре. Я его запомнила, потому что он часто ходил с чайником к нашим соседям, у которых во дворе был колодец. Помню, как-то летом, в общем совхозном стаде обнаружилась нехорошая болезнь — «ящур». Чтобы от него не заразились и частные коровы, в лесу отвели специальное место, и там они находились около месяца в карантине. Все жители по очереди дежурили по ночам возле своих буренок. Однажды отец взял на дежурство и меня. Это было в мае-июне, а вот год не помню. Где-то к полуночи к лесу стали подъезжать машины, а потом послышались выстрелы и крики людей. Было так жутко, что я начала плакать и отец отвел меня домой. После этого случая я больше с отцом дежурить ночью не ходила.
Однако бывать близко возле места расстрелов людей мне приходилось еще не раз. Не могу сейчас вспомнить, в каком году это было, но в летнее время, мы вместе с жительницей нашей деревни Нехайчик Надеждой Викентьевной пасли коров возле дороги-гравейки, которая вела на Заславль. Со стороны этой дороги как раз и находились ворота в заборе. Мы не досмотрели и, видимо, несколько наших коров зашли через открытые ворота за забор. Почему ворота оказались открытыми, сказать не могу. Мы долго не решались подойти к ограде, боялись, но потом оттуда вышел знакомый охранник, тот, что ходил к соседям за водой. Мы стали плакать, просить, чтобы он отдал наших коров. Охранник нас послушался, но предупредил, что если мы не будем смотреть за коровами, то сами останемся за этим забором. Пока мы говорили, я видела засыпанные свежим песком ямы не очень далеко от входа. Во время войны в Куропатах немцы никого не расстреливали. Часть леса они вырубили, а забор разобрали местные жители. Ни во время, ни после войны в том лесу, где расстреливали людей, никто никаких раскопок не делал. Это я знаю точно, так как жила в Зеленом Луге до 1978 года, пока нашу деревню не снесли.
Старшая подруга С. А. Козич — Надежда Викентьевна Нехайчик тоже хорошо помнит тот случай, но с другими подробностями:
— Мне кажется, что карантин на «ящур» был в нашем совхозе в 1938 году. И коровы находились в лесу больше месяца. Загон сделали недалеко от того места, где расстреливали «врагов народа». Нам было хорошо видно, как по гравейке к забору ночью подъезжали «черные вороны». После того, как машины заезжали за забор, начинались выстрелы, слышались крики людей и сильно лаяли собаки. Ночью все это хорошо было слышно, и всех нас дрожь пробирала от страха. Потом все стихало, грузовики уезжали. Как-то мы пасли коров и потеряли их. Мы подумали, что они зашли через ворота за забор, где расстрелы были. Но идти туда боялись. В то время в нашем доме жил работник милиции, наш, сельский. Я ему все рассказала. Он пошел с нами — и стал свистеть. Из-за забора через ворота вышел охранник, работник НКВД. Он сказал, что никаких коров за забором нет. Потом оказалось, что они зашли в Цну, их вернули нам через некоторое время.
А еще я помню такой случай. Мой сын Николай, когда ему было лет семь (он с тридцатого года), пошел с детьми в лес за ягодами. Я очень волновалась, так как узнала, что они направились туда, где расстреливают людей. Ждала сына, все прислушивалась, а потом услышала выстрел и увидела, как мой сын бежит к дому, голосит, а за ним гонится работник НКВД с пистолетом. Откуда-то примчался мой муж, схватил за руку энкаведешника и стал спрашивать, зачем он стрелял в мальчика. Тот начал извиняться, но было видно, что он сильно пьяный. Все повторял, что принял нашего сына за взрослого, думал, кто-то из-за забора убежал.
Георгий Тарнавский, Валерий Соболев, Евгений Горелик - Куропаты: следствие продолжается
Из показаний Ольги Тимофеевны Боровской, 1927 года рождения, пенсионерки, работает на полставки санитаркой в больнице:
— У нас была большая семья: родители и пятеро детей. Отец охранял колхозный амбар и пасеку. Мы, дети, помогали маме по хозяйству. Отец сильно волновался по поводу происходивших в лесу событий, он очень это переживал. Нам часто говорил: вот до чего дошла Советская власть, иди мать послушай, дети, послушайте. Мать поднималась с кровати, выходила на улицу, мы дети — следом за ней. А со стороны леса были слышны крики, стоны. Кто-то кричал: «За что нас?» Были слышны выстрелы. Сначала стреляли только ночью, а потом и днем. Все это происходило в 37—38-м годах, а потом и до самой войны. Но поздней было не каждую ночь, через день-два.
Как-то летом мы пошли за ягодами. Много собралось детворы из деревни, я среди них была самая младшая. Со мной, помню, была Батян Мария Степановна, но она уже умерла. Пошли мы в Брод. С нами был хлопец, который сказал, что покажет такие ягоды, где моментом можно кувшин набрать. Залезли мы туда через подкоп под забором. А забор был высокий — метра три, перелезть через него невозможно. Не успела я собрать и полкувшина, а ягод было, действительно, много, как он вдруг кричит: «Атас». Парень перекатился под забором, а все столпились у подкопа. В это время стали подъезжать машины, мне деваться некуда и я спряталась под ель, я вся дрожала, очень перепугалась, даже кувшин потеряла.
Да, у парня, который нас туда привел, фамилия Нехайчик Александр Григорьевич, он погиб на фронте. Сразу пришла легковая машина, которую Саша называл «эмочка». И следом за легковой — крытый грузовик. Из легковушки вышли мужчины, которые были одеты в гражданские костюмы серого цвета, без головных уборов. Было их человек пять, я не считала, не до этого было. Из будки грузовой машины эти мужчины стали выводить людей. У всех были руки назад и связаны. Когда их выводили из машины, то руки развязывали. Их начали стрелять, мне стало страшно. Люди кричали: «За что вы нас, я ни в чем не виноват». Из кабины грузовой машины никто не выходил. Выводили и расстреливали людей те, кто приехал на легковушке. Одежду их более точно я описать не могу. Помню, что стреляли, а яма уже была выкопана заранее.
Когда этих людей расстреляли, несколько человек еще вывели из машины и заставили закапывать могилу, потом и их постреляли. Среди убитых были и мужчины, и женщины. Одежда у них была обычная, городские они или деревенские, не могу сказать. Помню только, что у женщин были растрепанные волосы. По возрасту и молодые, и старые, всякие. Но эти люди не местные, я их не знала. Кто они по национальности, сказать не могу, говорили они обыкновенно, по-русски и по-нашему, по-белорусски. Отец мой ходил на это кладбище, когда еще не было забора, матери он тогда говорил, что земля еще «варушится», они еще там живые.
Георгий Тарнавский, Валерий Соболев, Евгений Горелик - Куропаты: следствие продолжается - Содержание
Вместо предисловия, или о чем поведала домовая книга
Как взорвалось это слово «Куропаты»?
- Вопрос первый: Что видела лесная окраина?
- Вопрос второй: Когда это было?
- Вопрос третий: Почему это стало возможным?
- Вопрос четвертый: Кто покоится в братских могилах?
- Вопрос пятый: Сколько жизней оборвалось у края могил?
- Вопрос шестой: Почему в могилах так много иностранных вещей?
- Вопрос седьмой: Кто стрелял в затылок?
Вместо послесловия: Приговор вынесет время
Георгий Тарнавский, Валерий Соболев, Евгений Горелик - Куропаты: следствие продолжается - Вместо предисловия, или о чем поведала домовая книга
В довоенном Минске все было в центре города, если смотреть на него глазами сегодняшнего жителя. А уж этот дом, на первый взгляд серьезный, чопорный, но в то же время какой-то легкомысленный — с ажурными решетками балконов, с витиеватой лепкой и свирепыми масками мифических героев — и вовсе стоял на пересечении главных житейских путей. Отсюда, с перекрестка улиц К. Маркса и В. И. Ленина, за две минуты можно было дойти до ЦК партии и комсомола, за пять — до Дома правительства и всего за три минуты — до здания НКВД, которое располагалось чуть-чуть в стороне, но и строго между ними. Фасад его украшали благостные силуэты двух богинь — Совести и Правосудия, дарящих людям мир и спокойствие. Фемида, как принято, держала в одной руке меч, в другой — весы. Глаза ее закрывала повязка. При взгляде на это произведение неизвестного ваятеля у любого минчанина или гостя города сразу же развеивались всякие сомнения, где именно торжествуют Закон и Справедливость.
Может, случайно, а может, по аналогии с популярной гостиницей, дом на перекрестке называли «Вторым Советским», и жили в нем люди преимущественно известные, ответственные — руководители республики, наркомы, видные ученые и общественные деятели, иностранные граждане, искавшие в нашей стране защиты от преследований за коммунистические убеждения. Сейчас на стенах домика тесно от мемориальных досок — Ф. Э. Дзержинскому, П. К. Пономаренко, А. Г. Червякову — одному из организаторов Советской Белоруссии, председателю ЦИК БССР, Н. М. Никольскому — известному историку и этнографу, академику АН БССР, лауреатам Ленинской премии поэту П. У. Бровке и академику ВАСХНИЛ М. Е. Мацепуро. Не исключено, что вскоре появятся доски и многим другим достойным людям, в чью честь, правда, до последнего времени не принято было устанавливать памятные знаки.
Сходство с гостиницей в те годы придавало дому и то грустное обстоятельство, что жильцы в нем, как правило, надолго не задерживались. Некоторые квартиры освобождались и заселялись по четыре-пять раз в год, а следы их недавних хозяев, дойдя за три минуты до здания НКВД, внезапно обрывались, чаще всего — навсегда. …На столе перед нами желтая, с подтеками и чернильными пятнами, изрядно потрепанная «Домовая книга для прописки граждан, проживающих в доме номер 38/23». Первая запись в ней учинена в октябре 1931 года, последняя — в январе 1941-го. Десятилетие, вместившее сотни «прописок» и «выписок», сотни человеческих судеб, чаще всего — трагических. Почти полвека книга бережно сохранялась в семье Александра Осиповича Хоревича, одного из немногих старожилов привилегированного дома. В заполнявшейся при прописке графе «род занятий, должность и место работы…» о нем записано так: «уборщик 2-го Дома Советов». Должность эта, как выяснилось, включала в себя несколько профессий. Александр Осипович был дворником и сторожем, истопником и грузчиком, столяром и слесарем-сантехником. Словом, на любую просьбу жильцов А. Хоревич, которого они ласково называли Хоревчик, откликался быстро и охотно, заслужив прочную репутацию мастера на все руки и одновременно доброго, отзывчивого человека.
К середине 30-х Александр Осипович поневоле освоил еще одну профессию — понятого. Рассказывая нам об этом времени, его сын, Виктор Александрович, как о чем-то обыденном, привычном упомянул, что почти каждую ночь его, тогда пятиклассника, будил по ночам громкий, требовательный стук в окно или дверь. Отец подхватывался с постели, торопливо одевался и уходил вместе с дядями в штатском или в форме НКВД. Возвращался он, как правило, утром, ходил мрачный, подавленный, угрюмо молчал, а на расспросы матери и Виктора отвечал с несвойственной ему резкостью: «Придержите язык за зубами». Но к вечеру отцовская тайна постепенно раскрывалась и кто-то из пацанов-приятелей шептал Виктору на ушко: «Из шестой квартиры арестовали дядю Николая. Польским шпионом оказался…» С каждым днем «шпионов» и «террористов» в доме становилось все больше, к внезапным арестам почти привыкли, и после очередного ночного визита энкаведешников стал обыденным такой разговор между мальчишками: «Вчера забрали Юркиного батьку. Опять седьмую квартиру опечатали».
…По улицам изувеченного бомбежками Минска еще шли торжественным маршем орущие колонны гитлеровцев, а к «дому с излишествами» уже подкатило несколько легковых автомашин. Будущие отцы оккупированного города присматривали себе подходящее гнездо. Они внимательно обследовали пострадавшие во время обстрелов квартиры, велели немедленно начать ремонт, а немногим семьям, перебравшимся на первый этаж и в подвал, приказали в двадцать четыре часа освободить помещения. Александр Осипович быстро собрал свой небогатый скарб в легкий сундучок, положил на дно домовую книгу с дорогими его памяти именами и отправился с женой и сыном в пригород, где накануне присмотрел свободную комнату в продуваемом насквозь дощатом бараке. Все тяжкие годы оккупации и затем почти тридцать послевоенных лет — до самых последних дней своих — берег А. О. Хоревич книгу как дорогую реликвию, как документ, который (он верил в это) когда-нибудь пригодится, заговорит.
После смерти отца все нажитое им за долгую жизнь перешло в собственность Виктора Александровича. Он живет сейчас в Жодино, недавно вышел на пенсию по инвалидности, но по мере сил работает, держит хозяйство. Сын стал беречь книгу уже как память об отце и о своем детстве. Узнав из газет о расследовании «дела о Куропатах», он справедливо рассудил, что документ из того, теперь уже далекого прошлого, непременно должен в чем-то помочь следствию, и, не колеблясь, отправил пакет в Минск, в Прокуратуру республики. И вот теперь мы вместе с нашими гостями осторожно листаем ломкие страницы и, боясь проронить хоть одно слово, слушаем диалог Софьи Александровны Червяковой — дочери первого президента Белорусской Советской республики — и Вальтера Ивановича Лейзера — сына секретаря Комиссии партийного контроля при ЦК КП(б)Б. Их отцы были объявлены «врагами народа» с интервалом в один год — А. Червяков в июне тридцать седьмого, И. Лейзер — в июле тридцать восьмого.
С. Червякова:
— Сколько я себя помню, мы всегда жили в этом доме. А заселились, кажется, в двадцать первом, мне было тогда три года. Моя младшая сестра Люся еще даже не родилась. И квартиру занимали одну и ту же — десятую на втором этаже. Когда начались аресты, я заканчивала школу и хорошо помню, как утром к маме, Анне Ивановне, с полными ужаса глазами, прибегала то одна, то другая соседка. Просили заступиться за мужа или отца, помочь разобраться. Не знаю, предпринимала ли мама какие-то шаги, — она была представителем газеты «Известия» в Минске и, думаю, немногое могла сделать. Передавались ли эти просьбы отцу, тоже не знаю, при детях взрослые таких разговоров, как правило, не вели. А мы с Люськой верили, что если арестовали, значит, враг, так просто Советская власть не арестовывает.
В. Лейзер:
— Я тоже верил. Пожалуй, только к середине тридцать седьмого начали одолевать сомнения. Особенно, когда забрали ночью друга нашего отца — Рейнгольда Яновича Эгле. Латышский стрелок, человек с легендарной биографией, он приехал в Минск, как тогда говорили, по линии Коминтерна.
Был дядя Рейнгольд очень высокого роста, мне запомнилось, что, входя в нашу квартиру, он всегда сильно наклонялся, потом поднимал голову и весело здоровался по-немецки. Работая уполномоченным топливного комитета, часто уезжал в командировки, а возвратившись, непременно приносил мне и сестрам гостинцы — то большое красивое яблоко, то узелок лесных орехов, то пригоршню белых тыквенных семечек. Баловал нас, может, еще и потому, что своих детей не было.
Накануне ареста он тяжело заболел, несколько дней не поднимался с постели. «Пришли ночью, — рассказывала потом его жена тетя Соня, — уложили на носилки и унесли». Через несколько дней умер в тюрьме, никаких показаний дать не успел.
С. Червякова (читает книгу):
— Хацкевич Александр Исакович. Очень хорошо помню их семью. Жили они в 17-й квартире. Года четыре, наверное, он работал наркомом финансов. Иногда заходил к отцу, а Лидия Владимировна — жена его — дружила с мамой, забегала к нам почти каждый вечер. Была у них дочка Варенька — немного моложе меня, водилась с нашей Люськой.
Расстреляли дядю Сашу, как мы потом узнали, в Минске, в конце тридцать седьмого года. Обвинение выдвинули тяжелое, но по тому времени ставшее уже стандартным: «участник национал-фашистской организации, проводил вредительскую работу и занимался шпионажем в пользу Польши». Как сложилась судьба Варвары и ее братика Владимира, я не знаю.
В. Лейзер:
— Смотри, Зося, вслед за Хацкевичами в семнадцатой квартире прописаны Дубовцовы. Большая была семья, очень дружно жили, весело. Все на чем-то играли, хорошо пели, какие-то спектакли ставили. Я дружил с Федором — старшим сыном — и часто ходил к ним. Андрей Афанасьевич заведовал приемной в ЦИК, по нынешним временам — в Президиуме Верховного Совета. Исключили его из партии, а вскоре и арестовали за то, что, «имея тысячи сигналов-жалоб о контрреволюционной работе в Белоруссии, не разоблачал врагов народа, чем прикрывал их деятельность». Мне запомнилась эта формулировка, потому что через несколько месяцев ее дословно повторят в обвинении против моего отца — секретаря комиссии партийного контроля при ЦК КП(б)Б.
С. Червякова:
— Помнишь, Вальтер, под нами была девятая квартира? В тридцать седьмом году она заселялась раза три или четыре.
В. Лейзер:
— Да, все это было на моих глазах. Случилось так, что после ареста отца нашу семью почему-то не тронули. Опечатали только кабинет, оставив для нас четверых две маленькие комнатки. Правда, где-то через полгода одну из них вместе с отцовским кабинетом отдали какому-то начальнику из Наркомфина. Нас он почти не замечал, был поглощен своими заботами, только сильно ругал кого-то по телефону, забывая извиняться и перед собственной молодой женой, и перед моими взрослыми сестрами.
А в девятой квартире долгое время жили Бенеки — Казимир Францевич и Станислава Станиславовна. Сын Альфред был старше меня на три года, учился в университете. О Казимире Францевиче рассказывали легенды: в семнадцать лет он стал профессиональным революционером, в девятнадцать был арестован и заточен в считавшуюся неприступной Модлинскую крепость. А он из нее убежал. Участвовал в Февральской и Октябрьской революциях. Затем в красногвардейском отряде воевал с немцами. Был губернским комиссаром по польским делам в Воронеже. Много лет и сил отдал партийной работе в различных районах Белоруссии.
В 1927 году он возглавил наркомат труда, потом торговли, три года был заместителем председателя Совнаркома БССР. Когда мы поселились во «Втором Советском» и я познакомился с пацанами, то узнал, что отец Альфреда — нарком земледелия, член ЦК и ЦИК, по теперешним меркам — народный депутат республики. Позднее, исследуя на досуге «родословную» нашего дома, я убедился, что наркомат земледелия был, пожалуй, самым «богатым» на «врагов» и «вредителей». Судите сами: Д. Ф. Прищепов — один из первых наркомов — уже в 1929 году исключен из партии «за оппортунистическую деятельность и систематическое искажение классовой линии в руководстве земельными органами…», а через два года заключен в лагеря на десять лет как член контрреволюционной национал-демократической организации.
В 1933 году на этот пост был назначен К. Ф. Бенек, спустя три года объявленный одним из лидеров антисоветской профашистской террористической организации, ставившей целью отторжение Белоруссии от Советского Союза. Чем это закончилось, известно: Бенека приговорили к высшей мере наказания и расстреляли. В июне тридцать седьмого его сменил на посту наркома Николай Федосьевич Низовцев. Жили они с женой Ольгой Васильевной и сыном Юркой в 15-й квартире. Наркомом проработал месяца два, наверное. Как теперь помню, возвращались мы вместе с дачи в город, ехали в трамвае. И вдруг слышим разговор двух мужчин: «Сегодня еще одного врага народа взяли — Низовцева». Ольга Васильевна побледнела, губы ее задрожали. И вдруг, я и слова сказать не успел, выскочила из трамвая, бросилась назад, на дачу. Там быстро собрала Юрку и бесследно исчезла. Энкаведешники потом с ног сбились, разыскивая ее, но так и не нашли.
Очередным наркомом земледелия назначили, кажется, В. Ф. Шишкова, но тоже совсем ненадолго. Он заселился в девятую квартиру после ареста секретаря ЦК КП(б)Б Владимира Дмитриевича Потапейки.
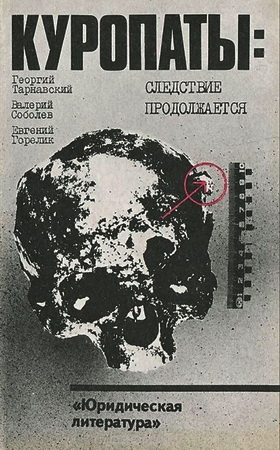
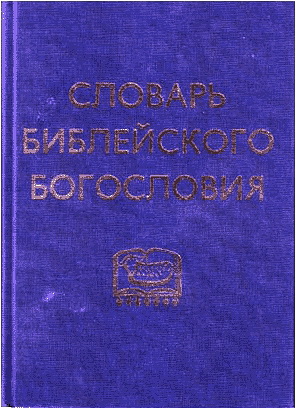
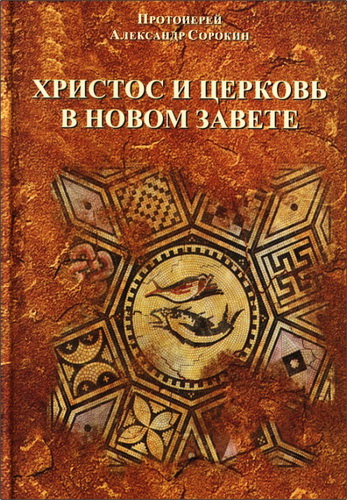

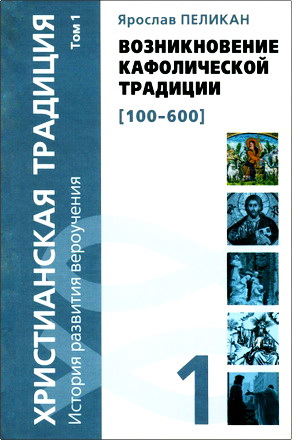
Комментарии (1 комментарий)
В Ваших руках книга, которая вряд ли годится для легкого чтения. Не исключено, что ознакомление с ее печальными страницами потребует мучительной работы души и сердца. Тем, кто не готов к такой работе, кто устал от разоблачений и «белых пятен», советуем отложить книгу в сторону. Мы расскажем о следствии, о допросах и экспертизах, о нелегком поиске ответов на мучительные вопросы: «кого убили?» Вас ждет предельно точный, откровенный рассказ о горьких событиях нашей истории, забыть которые мы не вправе, если только не хотим, чтобы это когда-нибудь повторилось.
В книге использованы фотоматериалы из уголовного дела по расследованию Прокуратурой БССР массовых расстрелов советских граждан в 30-е годы под Минском.