Рецензия на книгу - Льюис Клайв Стейплз. Избранные работы по истории культуры. Сост., пер. с англ, и коммент. Н. Эппле; предисл. У. Хупера. — М.: Новое литературное обозрение, 2015.— 928 с. (Серия «Интеллектуальная история»)
Владислав Бачинин - Теология культуры как пространство интеллектуальных радостей и тревог
Статья любезно предоставлена автором для публикации на сайте Эсхатос.
Знаток истории европейского духа
Клайв Стейплз Льюис (1898-1963), автор таких мировых бестселлеров, как «Хроники Нарнии» и «Письма Баламута», достаточно хорошо знаком российскому читателю и как писатель, и как христианский мыслитель. А вот фигура Льюиса-ученого, историка культуры, исследователя классических форм европейской духовности, знатока средневековой литературы, только лишь начала вырисовываться в его сознании. Объемистый том культурологических работ, чуть ли не в тысячу страниц, выпущенный издательством «Новое литературное обозрение», - серьёзная гуманитарная акция на этом пути.
Сборник «Избранные работы по истории культуры» включает три книги Льюиса – «Аллегорию любви» (1936), «Предисловие к «Потерянному раю» Мильтона» (1942) и «Отброшенный образ (Введение в средневековую и ренессансную литературу)» (1962). Думается, что составитель не погрешил бы против истины, если бы назвал изданную книгу «Избранные работы по теологии культуры». Для этого имеются достаточные основания. Во-первых, книги написаны не атеистом, а верующим, членом англиканской церкви, который остаётся убеждённым христианином и в своих ученых трудах. Во-вторых, все вошедшие в сборник тексты посвящены временам старой, доброй классики, когда синдром модернистской секулярности еще не поразил европейское сознание, когда оно еще вполне доверяло тому, что написано в Библии и высоко ценило теоцентрическую картину мира за убедительность смысловых обоснований и совершенство её ценностно-нормативных пропорций.
Чтение Льюиса – занятие, не только приносящее пользу, но и доставляющее удовольствие. Автор – рафинированный интеллектуал и располагает к себе разнообразием творческих дарований. Будучи мастером в области фэнтези-жанра, ученым-литературоведом, историком, культурологом, моралистом, теологом-апологетом, философом (он начинал свою научную карьеру как преподаватель философии), Льюис чувствует себя как дома на территориях Священного Писания, научной фактографии и художественных фантазий. Его творческий мир, питаемый верой, жаждой познания и воображением, опирается на трех китов - теологию, науку, искусство. И в каждой из этих областей он сумел сказать своё слово, живое, одухотворённое и неординарное.
Льюис был, в сущности, счастливым человеком. Его духовному «я» не надо было разрываться между вышеуказанными направлениями. Он чрезвычайно легко, практически на каждом шагу находил возможности для их соприкосновений, взаимодействий и синтезов. Они у него так органично сочетались, что порой даже затруднительно определить, кто перед тобой – ученый, богослов или писатель.
Перефразируя самого же Льюиса, можно сказать: он писал так, что его охотно читали (и продолжают читать) и христиане, и язычники, и атеисты. Это не означает, что в его текстах присутствуют умонастроения всех трех направлений. Нет, просто он умеет так повернуть разговор, что его, христианина, готовы слушать и не христиане. При этом он ни под кого не подлаживается, всегда и везде остаётся самим собой. Но богатство его личности, тонкость ума, проницательность интуиции, отменное художественное чутьё, особый, доверительный тон общения с читателем делают его интересным в глазах самых разных людей.
На любой из вопросов о дорогих ему смыслах и ценностях Льюис был в состоянии ответить либо как ученый-гуманитарий, либо как художник, либо же как богослов-апологет. Его разносторонне одаренная и гармонично уравновешенная личность давала ему прекрасные возможности наслаждаться разносторонними интеллектуальными радостями, которые он любил и к которым стремился.
Чехов и Льюис, или Личный теологический поворот

Духовный путь Льюиса был не простым. В молодости он не верил в Бога. А впоследствии признавался, что при поступлении в университет был настолько близок к полной бессовестности, насколько это возможно для мальчишки, что о таких вещах, как целомудрие, правдивость и жертвенность, знал не больше, чем обезьяна о симфонии.
Для человека, который до тридцати лет оставался атеистом, обретение веры стало самым значительным событием его внутренней жизни. За этим духовным прорывом последовала решительная перемена во всём строе его миросозерцания.
Духовные перевороты такого рода доступны далеко не каждому гуманитарию. Они требуют не только полной авто-ревизии содержимого внутренних кладовых ума, сердца и души, но и выхода на совершенно новую траекторию духовной жизни. А это очень серьёзный труд, требующий больших сил и значительного времени. Но не встать на этот путь Льюис не мог. Понять, что им двигало, лучше всего, призвав на помощь Чехова, его «Скучную историю». Как мы помним, в ней предлагается почти анатомический срез души её главного героя, очень талантливого ученого. Читателю открывается тяжелая и мрачная картина: «Сколько бы я ни думал и куда бы ни разбрасывались мои мысли, для меня ясно, что в моих желаниях нет чего-то главного, чего-то очень важного.
В моем пристрастии к науке, в моем желании жить, в этом сидении на чужой кровати и в стремлении познать самого себя, во всех мыслях, чувствах и понятиях, какие я составляю обо всем, нет чего-то общего, что связывало бы их в одно целое. Каждое чувство и каждая мысль живут во мне особняком, и во всех моих суждениях о науке, театре, литературе, учениках и во всех картинках, которые рисует мое воображение, даже самый искусный аналитик не найдет того, что называется общей идеей, или богом живого человека. А коли нет этого, то значит нет и ничего. При такой бедности достаточно было серьезного недуга, страха смерти, влияния обстоятельств и людей, чтобы все то, что я прежде считал своим мировоззрением и в чем видел смысл и радость жизни, перевернулось вверх дном и разлетелось в клочья. Ничего же поэтому нет удивительного, что последние месяцы своей жизни я омрачил мыслями и чувствами, достойными раба и варвара, что я теперь равнодушен и не замечаю рассвета... Я побежден!..»
Перед нами даже не драма, а настоящая трагедия одарённой личности, достигшей научных вершин, о которых многие могли только мечтать, но на самую главную вершину, доступную человеческому духу, вершину веры, так и не взошедшей. Отсюда тяжелая сумрачность внутреннего состояния и фактическое признание в самом крупном из всех возможных жизненных проигрышей.
Льюису, который провел достаточно много лет сознательной жизни в качестве атеиста, в конце концов удалось вырваться из духовного морока внутренней расхристанности. Около трех лет длился переходный процесс, и, наконец, в 1931 году, в возрасте 33-х лет он уверовал в Иисуса Христа. Так что чеховская экзистенциальная тоска не смогла его одолеть, меланхолическому унынию не удалось заплести паутиной его душу, ум не поддался искушениям модного нигилизма. Враг был побеждён.
Христианская вера преобразила личность Льюиса, высветлила внутреннее пространство его души и ума, сделала неисправимым оптимистом, придала его научным текстам глубину и одухотворённость, недоступные авторам с секулярным мышлением.
В результате пережитой метанойи у Льюиса изменилось не только мировоззрение, но и мироощущение. К взрослому мужчине, решившему отныне всегда и везде выступать «на стороне Бога», пришло мироощущение 22-летнего юноши, описанное тем же Чеховым в рассказе «Студент». Там образы Гефсиманской ночи, когда был схвачен Иисус, заставили юношу ощутить мощный прилив свежих чувств и мыслей. Он внезапно постиг пронзительную истинность того, что прежде было скрыто от него за пеленой банальной текучей повседневности: «Прошлое связано с настоящим непрерывной цепью событий, вытекавших одно из другого. И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой. А когда он переправлялся на пароме через реку и потом, поднимаясь на гору, глядел на свою родную деревню и на запад, где узкой полосой светилась холодная заря, то думал о том, что правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле; и чувство молодости, здоровья, силы… и невыразимо сладкое ожидание счастья, неведомого, таинственного счастья овладевало им мало-помалу, и жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла».
Чувства и мысли такого же рода вошли и в Льюиса, в его мироощущение и творческое сознание. Ими пронизаны все три текста, вошедшие в том «Избранных работ по истории культуры». Именно они и придают книге то невыразимое интеллектуальное обаяние, которое отличает тексты особо одарённых и одухотворенных гуманитариев-нонконформистов.
Нонконформист
Можно ли считать нонконформистом того, кто опирается на систему традиционных ценностей и норм? Оказывается можно, если речь идёт о временах модерна, который отменил множество традиций, раскассировал Бога, убрал Библию с письменных столов абсолютного большинства интеллектуалов, вычеркнул христианские смыслы и ценности из их духовного рациона.
Между тем, модерн в своём нигилистическом задоре оказался не всесилен. Совершив покушение на Великую Классическую Традицию библейско-христианского происхождения, он не смог её убить. Его смертоносная коса не сумела выкосить культурное пространство так тотально, как ему того хотелось. На скошенном поле, в разных его местах остались чудом уцелевшие отдельные колоски и травинки. Одной из них и оказался Клайв Стейплз Льюис.
Впрочем, строго говоря, Льюиса, при всей его любви к Великой Традиции, нельзя считать стопроцентным традиционалистом. Он занял в культуре ХХ века совершенно особое место, поскольку не только защищал старые, добрые классические идеалы, но и с большим интересом относился к современным духовным процессам. У него был дар связывать времена, выстраивать мосты между архаикой и новаторством. И та область знаний, которая именуется теологией культуры, предоставляла ему для этого безграничные возможности.
При всей любви Льюиса к образам, аллегориям, метафорам, главным его инструментом являлась мысль. Он владел ею, как искусный фехтовальщик владеет шпагой. Она у него постоянно в деле, независимо от того, пишет он теоретическое исследование, апологетическое эссе или художественный текст. Тот богословский ресурс, которым она оснащена, не утяжеляет её и не мешает её полету, а, напротив, придаёт ей удивительную лёгкость и свободу движений. Подобно парящей птице, она обозревает такие котекстные дали, которые не могут попасть в поле зрения гуманитариев-позитивистов, интеллектуалов-атеистов. При этом ей совершенно чужды нудная тенденциозность и навязчивая назидательность. Вместо них налицо изящество тонких формулировок в одних случаях и мудрая, спокойная глубина строгих сентенций в других.
На примере текстов Льюиса видно: чем выше взбирается человеческий разум по ступеням, ведущим к Богу, тем большая свобода и красота мысленных построений становится доступной его творческому сознанию. А это наводит на мысль о неизбежности и противоположного положения дел. Ведь слишком часто приходится убеждаться в том, как опасно гуманитарию располагаться на нижних ступенях лестницы, соединяющей землю и небо. Чем ниже эта ступень, тем явственнее проступают признаки духовного убожества суждений, тем суконнее и мертвеннее становится язык, тем больше уму угрожает опасность погружения в состояние безмыслия.
 «Аллегория любви» - бракосочетание учености и красноречия
«Аллегория любви» - бракосочетание учености и красноречия
Тема аллегорической традиции в средневековом мышлении, а с нею и проблема аллегорического метода стали центральными в докторской диссертации Льюиса. В 1936 г. увидела свет его книга «Аллегория любви».
Далеко не случайно ключевой акт институциональной легитимации Льюиса как ученого состоялся на площадке именно такой образно-риторической фигуры иносказания как аллегория. Она привлекла его внимание своей особой природой, где рациональность легко сопрягается с эмоционально-образным, живописующим началом, где открываются широкие врата в мир притч, фантастических сюжетов, всевозможных утопий и антиутопий. Льюис, по-видимому, уже ощутил внутри себя неодолимое тяготение не только к теоретическим исследованиям, но и к художественному творчеству. И тема аллегорического метода позволяла соединить оба эти интереса и творческих вектора.
Имелось у этой темы и еще одно достоинство. Льюису было хорошо известно, какую важную роль аллегорический метод играл в библейской герменевтике. Он применялся при толкованиях Ветхого и Нового Заветов многими богословами. Так, Ориген, выделявший три способа толкования Библии, буквальный, моралистический и духовно-аллегорический, считал последний наиболее подходящим к особенностям Священного Писания. Филон Александрийский видел в ветхозаветной истории свидетельство странствий человеческой души, пытающейся постичь замыслы Бога и понять себя.
Льюис по достоинству оценил содержащийся в аллегорическом методе богатейший интеллектуальный ресурс, который давал возможность при толкованиях многогранных литературных образов не держаться за стратегию ползучего буквализма. Ученый не только изучил опыт других авторов, пользовавшихся этой возможностью, но и сам овладел искусством проникновения с помощью такого «золотого ключика» в области новых, неожиданных и эвристичных смысловых оттенков. Мастерски расширяя и углубляя смыслы феномена куртуазной любви, он создал строго концептуальный и одновременно увлекательный текст «Аллегории любви».
Н. Эппле пишет, что об «Аллегории любви» и таланте ее автора «можно сказать, воепользовавшись образом из самой книги: «Провансальское вино взбродило, теперь его пора отцедить». Вот почему сама эта книга, как заметил кто-то из критиков, — новое бракосочетание Меркурия и Филологии, красноречия и учености, так долго остававшихся разделенными»
[1].
Пугающая актуальность «Потерянного рая»: политикум падших духов
Работа над книгой «Предисловие к «Потерянному раю» Мильтона» шла в те годы, когда уже вовсю громыхала Вторая мировая война. Трудно счесть случайностью то, что мильтоновский сюжет восстания инфернальной сатанинской орды против Бога заинтересовал Льюиса именно в этот период.
В 1942 году одновременно с «Предисловием» в свет выходит книга «Письма Баламута», где многоопытный бес Баламут готовит начинающего бесёнка Гнусика к духовной войне с людьми. Льюис, изображая Баламута как одну из вариаций образа Мефистофеля, как бы заглядывает на «кухню» демонизированного мышления, где готовятся искусительные бесовские блюда, представляющие смертельную угрозу для человека.
Примечательно, что в это же самое время тему атаки демонических сил на человека исследует и Томас Манн, с головой погруженный в работу над романом «Доктор Фаустус».
Совершенно очевидно, что Льюис и Манн понимали социально-политическую реальность совсем не так, как её толковали тогдашние идеологи, социологи и политологи. Оба писателя-мыслителя отчетливо сознавали, что за катастрофическими реалиями стоят как люди, так и трансцендентные духи зла, о которых говорит Библия, но о которых современное человечество старается не думать.
Льюис не пытается примерить на себя ученую мантию политического теолога. Он действует как литературовед, склонный к культур-теологическим рефлексиям. Но дверь, ведущую из интересующего его проблемного пространства в актуальную политическую теологию, он не запирает. И читатель, при желании, имеет возможность ею воспользоваться. Ведь Льюис убежден, что Мильтон «изображает самые корни [зла. – В.Б.], которые прорастают ситуациями нашей жизни»
[2].
Льюис, может быть, сам того не желая, всё же вторгается в политический мир. Он так трактует ряд сцен поэмы, что, на удивление современным читателям, дух дебатов между обитателями inferno начинает перекликаться с политическими реалиями и середины ХХ столетия, и начала XXI века. По крайне мере, Льюис со своей стороны создает всё необходимое для этого. Он, конечно, понимает, что современные люди слабо веруют в существование преисподней. Но, зато, им хорошо знакомы многочисленные виды земных подобий ада.
Льюис подробно описывает ситуацию «адского тупика», в которую время от времени попадают как отдельные лица, так и целые народы и государства. Вот одна из таких сцен, воссозданных с глубокой психологической силой и точностью: «Демоны только что пали с небес в Ад. Каждый из них подобен человеку, который только что предал свое отечество или друга и знает, что обрек себя на положение отверженного; или человеку, только что по собственной непростительной вине бесповоротно поссорившемуся с любимой женщиной. Для людей выход из этого Ада часто существует, но он всегда только один — это путь смирения, покаяния и (если возможно) восстановления того, что было разрушено. Для мильтоновских демонов этот путь закрыт… Они знают, что не покаются. Дверь, ведущая из Ада, плотно заперта изнутри самими демонами; а стало быть, незачем рассуждать о том, заперта ли она снаружи.

Весь спор — это попытка отыскать какую-то иную дверь, кроме единственной возможной... Суть речи Молоха… Он ни за что не хочет принять свое унижение как неизбежное. Из этого невыносимого положения должен быть какой-то выход. И таким выходом становится для него ярость. Это часто кажется нам лучшим в сходных ситуациях. Когда сознание, что мы предали то, что ценили больше всего, становится невыносимым, остается надеяться, что его заглушит хотя бы бешеная злоба по отношению к предмету привязанности. Злоба, ненависть, слепое бешенство превосходно сочетаются с тем, что мы чувствуем в такие минуты. Надежна ли ярость? Это не имеет значения. Ничто не может быть хуже той горечи, что мы переживаем в эту минуту. Слепо ринуться на того, перед кем мы были не правы, и погибнуть, раня его, — что может быть лучше? И — кто знает? — прежде чем умереть, мы сможем принести немного вреда. Молох — простейший из бесов; просто крыса в ловушке»[3].
Вот это и есть, по Льюису, адский тупик, чреватый многими бедами для всех, кто оказывается в зоне действия «бешеной мощи ада».
Другой тип поведения в ситуации «адского тупика» демонстрирует демон Велиал. Он предлагает бесовской стае затаиться, переждать, тяжелые обстоятельства. В антропологической транскрипции эта модель действий означает путь полного духовного оцепенения, сползания на еще более низкую ступень существования, где во мраке духовного небытия уже невозможны ни мысль, ни вдохновение, ни великая литература, ни прекрасная музыка, ни неразвращенные люди. И в этом, по мнению Велиала, нет ничего страшного. Главное, чтобы никто не мешал тихо тлеть и разлагаться.
Еще один инфернальный тип самоубийственной стратегии представляет демон Маммон. Он убежден, что, при желании, в аду можно очень даже неплохо устроиться. Ад можно сделать таким же великолепным, как и Небо. Можно даже полюбить адскую тьму и научиться создавать собственный, адский свет.
Существа такого рода вообще не понимают различия между адом и Небом. Своё падение они не воспринимают как падение. Им совсем неплохо и без небес. Люди, являющиеся их земными аналогами, даже не замечают, что пали. Он живут в мире подделок, фальшивок, симулякров и не видят различий между стекляшками и бриллиантами. «Мы потеряли любовь? Что вы имеете в виду? За углом есть прекрасный бордель. Мы потеряли честь? Да я весь увешан орденами и медалями, встречая меня, всякий почтительно снимает шляпу»
[4].
И наконец, Вельзевул, демон-реалист, который чужд успокоительных и расслабляющих иллюзий. Он предлагает принять две аксиомы. Первая: они все уже в аду и это навсегда. Это непоправимо и необратимо. Второе: повторно восстать против Бога и навредить Ему они не могут. Остается всего лишь один вариант действий – причинить зло хотя бы кому-нибудь. Здесь Льюис снова переводит коллизию в антропологическую плоскость. Допустим, есть недосягаемая для вас женщина. Вы можете отомстить ей за недоступность тем, что отнимите работу у её младшего брата. А если у неё есть собака, то домашнее животное можно отравить. Но тут уже и до политики рукой подать. «Может быть, вы не повредите своему отечеству; но нет ли где-нибудь на свете крошечного народца, признающего его господство, на который вы могли бы сбросить бомбу или хотя бы задать ему хорошую трепку?»
[5]
Таков этический уровень разговоров обитателей преисподней. Таков дух их жизненных притязаний. Закоренелое, неисправимое, абсолютное зло либо исходит бешенством, либо копит внутри себя сдерживаемую ярость. «Каждый новый оратор обнаруживает все новые тайники низости и зла, новые ухищрения и новые безумства, давая нам наиболее полное представление о сатанинском тупике»
[6].
Для Льюиса важно, что «Потерянный Рай» — поэма не столько протестантско-пуританская, сколько общехристианская, то есть представляющая «великую центральную традицию»
[7]. Все ветви христианства имеют одинаковое понимание природы зла. На этих общих, трансцендентных основаниях мирового зла и сосредоточился Мильтон, пожелавший рассказать о сатанинском тупике в форме эпоса.
Льюис показывает, что поэт не героизирует, а дегероизирует образ сатаны, изображает процесс его прогрессирующей деградации. «В девятой книге он становится змеем по собственной воле; в десятой он уже змей, хочет он того или нет. Эта прогрессирующая деградация, которую сам сатана вполне сознает, отчетливо намечена в поэме. Он начинает с борьбы за «свободу», хотя и неверно понятую; но почти тут же он опускается до борьбы за «честь, главенство, прославленье и почет»… Терпя здесь поражение, он опускается до того величавого замысла, который ставит в центр поэмы человека — решает погубить два создания, не причинивших ему никакого вреда, уже не питая серьезных надежд на победу, но лишь для того, чтобы досадить врагу, на которого он не может напасть впрямую.
(Так трус в пьесе Бомонта и Флетчерау, не решаясь драться на дуэли, предпочитает пойти домой и поколотить своих слуг.) Этот замысел заставляет его превратиться во вселенского шпиона, вскоре — уже даже не политического, а обычного, пошлого, вожделеющего и извивающегося от похоти, когда он наблюдает за двумя влюбленными, именно здесь, едва ли не впервые в поэме, он назван не падшим Архангелом или грозным Владыкой преисподней, но просто «дьяволом»… гротескный развратник, наполовину страшилище, наполовину паяц народной традиции. От героя к военачальнику, от военачальника к политику, от политика к агенту тайной полиции, оттуда к твари, подглядывающей в окна спальни или ванной, затем к отвратительной гадине и в конце концов к змею — вот что такое сатанинский прогресс»
[8].
Романтический культ сатаны, утвердившийся в культуре, литературе последних столетий, – главная мишень Льюиса. От бунтующего сатаны Джона Мильтона тянется нить к «Бунтующему человеку» Альбера Камю. Классика плавно перетекает в модерн – эпоху, усиленно и массово производящую духовно повреждённых людей. Льюис, прекрасно понимая это, обращается к ним чаще, чем к кому-либо. Он видит в Мильтоне своего могучего союзника и отдаёт должное художественному воображению и этической мысли поэта. Оттого в своем анализе поэмы он не остаётся в пределах литературоведения и постоянно выходит на уровень нравственно-теологической рефлексии.
Льюис, как участник Первой мировой войны и современник Второй, видит в Мильтоне духовного собрата. И действительно, автор «Потерянного рая» близок оказывается по-настоящему близок людям ХХ-го (да и XXI века) тем, что мыслил категориями переходной, катастрофической эпохи, когда окружавший его мир разламывался на части от братоубийственных распрей, когда зло со всех сторон атаковало человека, а тот изо всех сил сопротивлялся.
«Отброшенный образ»: средневековая модель мира как произведение искусства
Льюис – редкий для ХХ века апологет классики, твёрдый защитник христианской системы традиционных мировоззренческих смыслов, экзистенциальных ценностей и этических норм. В книге «Отброшенный образ» он демонстрирует высокую этическую и эстетическую ценность этой системы. Средневековая картина мира предстаёт как гениальное произведение искусства, созданное симфонической личностью тогдашнего христианского человечества.
Когда-то, ещё в XIX веке, вначале Г.В. Гегель, а за ним Я. Буркхардт пытались рассматривать греческие полисы и итальянские государства эпохи Возрождения как произведения искусства. Эта идея, сама по себе очень не дурная, не прижилась. Ей повредил не слишком удачно выбранный объект приложения, поскольку вряд ли можно отыскать предмет, менее отвечающий художественно-эстетическим критериям, чем государство. Но в принципе, помимо государства, существует бесконечное множество систем, явлений, процессов, достойных теоретического рассмотрения под эстетическим углом зрения.
Заслуга Льюиса состояла в том, что он попытался применить метафору произведения искусства к средневековой модели мира. Погрузившись в изучение средневековой культуры, литературы, философии, теологии, он пережил чувство изумления перед гармоничностью и совершенством той мысленной модели мира, которая довлела над всем этим. Тонкий художественный вкус позволил Льюису оценить её как культурный шедевр и назвать самостоятельным произведением искусства
[9].

В этом творении человеческого духа сошлись векторы творческой энергии множества выдающихся умов. В нём разрешились бесчисленные интеллектуальные противоречия между взглядами, убеждениями, мировоззрениями, теориями огромного числа людей. Модель оказалась несравнимо выше любых фантазий. Ни один из отдельных всплесков чьего бы то ни было воображения не достигал той духовной высоты, на которую она оказалась вознесена. Льюис, исполненный эстетического восторга и восхищения, стал даже само слово Модель писать с большой буквы. Он увидел в ней не сухую умозрительную конструкцию, а прекрасно организованную множественность собранных воедино образов, символов, ценностей, норм, смыслов, идей, истин, идеалов. Он не уставал изумляться удивительно плотной смысловой пригнанностью разнородных элементов друг к другу.
Семантические, ценностные и нормативные пропорции этой Модели выглядели столь возвышенными и прекрасными, что и в ХХ веке этот гармоничный синтез был способен дарить уму и чувствам человека неизъяснимые интеллектуальные и эстетические наслаждения.
Восторги Льюиса были не беспочвенны. Он, наделённый не только незаурядным художественным чутьём, но и сильными аналитическими способностями, в данном случае ничуть не переборщил. Просто он занялся восстановлением справедливости. Ему захотелось, чтобы одно из главных достижений средневековой культуры было восстановлено в его эстетических правах. Он пишет: «Я надеюсь убедить читателя не только в том, что эта Модель вселенной — величайшее произведение искусства Средних веков, но и в том, что она в некотором смысле их главное произведение, в создании которого участвовало большинство отдельных произведений, к чему они то и дело обращались и откуда черпали значительную часть своей силы»
[10].
Модель мира, как плод творческого духа средневекового человека, предоставляла богатую пищу умам мыслителей, чувствам художников, воображению поэтов и активно участвовала в их творческой деятельности. Она служила и ментальным фоном, и сеткой координат, и основанием дедуктивных усилий мысли, и организующей ценностно-нормативной средой, и питательной почвой рефлексивных усилий, и контекстуальным полем игровых фантазий и богословско-философских умозрений. Её культуротворческий потенциал оказался поистине неисчерпаем. Льюис понимал, что и его собственное творчество во всём его объёме обязано своим существованием этой Модели. Более того, он стремился объяснить и показать своим современникам, что если им в их духовной, интеллектуальной, творческой жизни не достаёт высоких ориентиров и прочных констант, то они вполне могут обратиться к той старинной, но не устаревшей картине мира, к её созидательному потенциалу. И, подобно тому, как он не проиграл, обратившись к ней, так и они, оценив её по достоинству, не проиграют.
В заключении позволю себе высказать одно сожаление. Составитель-переводчик Николай Эппле, взявший на себя гигантский труд, проделал его великолепно. Но, не будучи специалистом в богословско-философских вопросах, он оставил их в стороне в своём блестящем послесловии «Танцующий динозавр». Между тем, понять такого сложного, постоянно философствующего и богословствующего автора, как Льюис, только лишь средствами исторической культурологии, крайне затруднительно. Его историцизм и культурологичность не просто встроены в более широкий религиозно-богословский контекст, но вытекают из него. Ориентированность же послесловия на частное, при игнорировании общего, создаёт целый ряд затруднений на пути к пониманию содержания всех трех льюисовских текстов. Читатель, не слишком сведущий в вопросах богословия, оказывается в очень не простом положении. Поэтому, было бы уместным дать в книге, скажем, два послесловия, то есть добавить к историко-литературоведческому еще и историко-теологическое. Думаю, что в повторном издании этого малотиражного, но чрезвычайно ценного труда, это упущение можно будет поправить.
Бачинин Владислав Аркадьевич,
доктор социологических наук,
профессор (Санкт-Петербург)
[1] Н. Эппле. Танцующий динозавр. – В кн.: Льюис К. С. Избранные работы по истории культуры.— М.: Новое литературное обозрение, 2015. С. 581.
[2] Льюис К. С. Избранные работы по истории культуры.— М.: Новое литературное обозрение, 2015. С. 583.
 Духовный путь Льюиса был не простым. В молодости он не верил в Бога. А впоследствии признавался, что при поступлении в университет был настолько близок к полной бессовестности, насколько это возможно для мальчишки, что о таких вещах, как целомудрие, правдивость и жертвенность, знал не больше, чем обезьяна о симфонии.
Духовный путь Льюиса был не простым. В молодости он не верил в Бога. А впоследствии признавался, что при поступлении в университет был настолько близок к полной бессовестности, насколько это возможно для мальчишки, что о таких вещах, как целомудрие, правдивость и жертвенность, знал не больше, чем обезьяна о симфонии. «Аллегория любви» - бракосочетание учености и красноречия
«Аллегория любви» - бракосочетание учености и красноречия В этом творении человеческого духа сошлись векторы творческой энергии множества выдающихся умов. В нём разрешились бесчисленные интеллектуальные противоречия между взглядами, убеждениями, мировоззрениями, теориями огромного числа людей. Модель оказалась несравнимо выше любых фантазий. Ни один из отдельных всплесков чьего бы то ни было воображения не достигал той духовной высоты, на которую она оказалась вознесена. Льюис, исполненный эстетического восторга и восхищения, стал даже само слово Модель писать с большой буквы. Он увидел в ней не сухую умозрительную конструкцию, а прекрасно организованную множественность собранных воедино образов, символов, ценностей, норм, смыслов, идей, истин, идеалов. Он не уставал изумляться удивительно плотной смысловой пригнанностью разнородных элементов друг к другу.
В этом творении человеческого духа сошлись векторы творческой энергии множества выдающихся умов. В нём разрешились бесчисленные интеллектуальные противоречия между взглядами, убеждениями, мировоззрениями, теориями огромного числа людей. Модель оказалась несравнимо выше любых фантазий. Ни один из отдельных всплесков чьего бы то ни было воображения не достигал той духовной высоты, на которую она оказалась вознесена. Льюис, исполненный эстетического восторга и восхищения, стал даже само слово Модель писать с большой буквы. Он увидел в ней не сухую умозрительную конструкцию, а прекрасно организованную множественность собранных воедино образов, символов, ценностей, норм, смыслов, идей, истин, идеалов. Он не уставал изумляться удивительно плотной смысловой пригнанностью разнородных элементов друг к другу.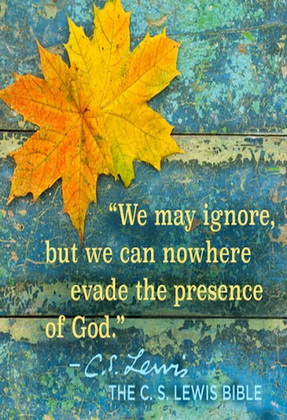




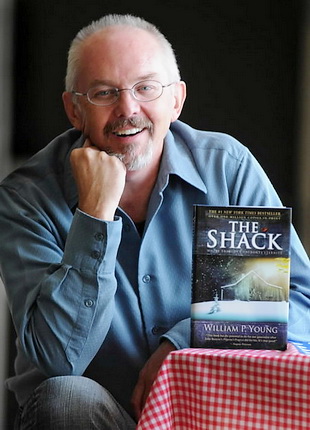
Комментарии
Пока нет комментариев. Будьте первым!