В интернете опубликовано впервые
© Eshatos
Перевод главы из книги Николаса Томаса Райта "Новый взгляд на Павла" для Eshatos - Евгений Федорович Марчук
Золотой фонд библеистики.
1. Три мира Павла
В предисловии я говорил о том, что изучение текстов Павла сродни поиску различных путей на гору. Лишь слегка изменив эту метафору, мы приходим к первоначальному наблюдению, которое переносит нас в мир Павла – главную тему этой вводной главы. По сути, мы можем говорить о мирах во множественном числе; чтение Павловых текстов особенно интересно потому, что апостол шагал по меньшей мере в трех мирах, а значит его слова следует слышать в трех разных акустических камерах. Звук в какой-то из них может и не быть слышим в других, хотя Павел хотел, чтобы они резонировали одновременно.
Возвращаясь к метафоре с горой, я представляю наследие Павла в виде холма на северо-западе Пеннинских гор, на который я любил взбираться в детстве. Поднявшись на вершину со стороны Йоркшира, можно было встать правой ногой в Йоркшире, левой – в Ланкашире, а протянув руку вперед, – прикоснуться к древней и многострадальной земли Уэстморленда. Точно так же Павел жил в трех (по меньшей мере) мирах. Только помня о каждом из них мы сможем осмыслить контуры его писаний.
Первым миром, путешествуя по которому апостол поднялся на свою гору, был, естественно, иудаизм. За последние десятилетия иудаизм эпохи Второго храма был изучен лучше, чем за прошедшее тысячелетие, и поток исследований продолжает литься на свитки, фарисеев, ранних раввинов и тому подобное, не говоря уж о важных археологических находках. Тем не менее, из беспорядочной массы информации возникает достаточно согласованная картина – подобно тому, как альпинист способен определить основные потоки и тропы, не обязательно имея возможность видеть все их переплетения. Иудаизм периода Второго храма был многогранной и оживленной комбинацией того, что мы теперь называем (хотя люди в то время не признавали такого разделения) религией, верой, культурой и политикой.
Но даже конфликтующие элементы мировоззрения сталкивались по поводу одних и тех же вопросов: что значит быть Божьим народом, быть преданным Торе, держаться иудейской самоидентификации перед угрозой захватнической языческой культуры и (превыше всего, по мнению некоторых) ждать наступления Божьего Царства, предсказанного пророками «будущего века», искупления Израиля в надежде получить свою долю будущего оправдания и благословения, когда этот день настанет. Таков был мир, из которого Павел вышел и в котором оставался, хотя и говорил такое, что никто из обитателей того мира не смел сказать – то, что многим из них казалось шокирующим и даже разрушительным. Представьте, как мнительный житель Йоркшира мог бы подозревать нашего скалолаза в том, что тот пытается тайно подменить белую розу на флаге красной.
 Вторым миром была греческая, или эллинистическая культура, которая во времена Павла проникла в каждый уголок восточного Средиземноморья и гораздо дальше. С дней Александра Великого – за триста с лишним лет до Павла – греческий стал не только вторым языком для всех, как в наши дни английский, но и парадигмой для мышления во многих местах. Опять же, в разновидностях эллинизма первого века недостатка не было, но культура и философия, а также (когда мы говорим о Павле) стиль риторики греческого мира были мощными и вездесущими. Нужно прочесть всего несколько страниц из трудов Эпиктета, более молодого современника Павла, чтобы почувствовать: радикально расходясь во взглядах, они пользовались одним и тем же языком и стилем ведения дискуссии. Иногда может показаться, что они жили на одной и той же улице. На улицах эллинистического дискурса Павел чувствует себя как дома, хотя явственно ощущает необходимость того, как он выражается, чтобы «пленить всякое помышление в послушание Мессии».
Вторым миром была греческая, или эллинистическая культура, которая во времена Павла проникла в каждый уголок восточного Средиземноморья и гораздо дальше. С дней Александра Великого – за триста с лишним лет до Павла – греческий стал не только вторым языком для всех, как в наши дни английский, но и парадигмой для мышления во многих местах. Опять же, в разновидностях эллинизма первого века недостатка не было, но культура и философия, а также (когда мы говорим о Павле) стиль риторики греческого мира были мощными и вездесущими. Нужно прочесть всего несколько страниц из трудов Эпиктета, более молодого современника Павла, чтобы почувствовать: радикально расходясь во взглядах, они пользовались одним и тем же языком и стилем ведения дискуссии. Иногда может показаться, что они жили на одной и той же улице. На улицах эллинистического дискурса Павел чувствует себя как дома, хотя явственно ощущает необходимость того, как он выражается, чтобы «пленить всякое помышление в послушание Мессии».
Он продуктивно использует лексику и образы языческих моралистов, но непременно наполняет их свежим содержанием. И это не просто приспособленчество к чуждой культуре или игра за обе команды. Именно потому, что в иудейской традиции единый Бог Авраама был творцом всей земли, и все люди были созданы по Его образу, апостол, как некоторые его современники (к примеру, автор «Премудрости Соломона»), смог заложить прочное основание внутри иудейского мировоззрения, с которого обращался к остальным обитателям – более того, правителям, – всего мира. Именно правители мира дней Павла и мир, который они стремились создавать, и были третьей сферой, где обитал Павел – в моей иллюстрации она соответствует третьему графству, в которое может проникнуть скалолаз, твердо стоя на обеих ногах в двух других.
Павел, к удивлению некоторых и тогда и сейчас, был римским гражданином, и даже если мы придерживаемся довольно сдержанных взглядов на историчность книги Деяний апостолов, он, по всей видимости, не раз пользовался привилегиями своего положения. Но, как и в иудейском и эллинистическом мирах, он не был бездумным обитателем огромной империи кесаря. Его позиционирование себя по отношению к Римской империи с ее идеологий и разрастающимся культом поклонения императору – тема, которая в наши дни активно обсуждается, и поэтому я посвящу ей всю четвертую главу.
Формируя третий угол в треугольнике мира Павла, римский контекст очень тесно взаимосвязан с первыми двумя. В иудаизме существовала традиция критики языческой империи, простирающаяся вглубь истории почти на тысячелетие – почином ей послужил Египет и история исхода. Для иудея первого века было совсем не сложно рассказывать старые предания об угнетении и освобождении, представляя нового актера в роли главного злодея. Когда я впервые попал на празднование Пурима (это было в западном Иерусалиме в 1989 году), пригласившие меня евреи были смущены тем, насколько очевидным был современный эквивалент Амана и его сыновей в сознании зрителей разворачивающейся драмы книги Есфирь.
Яркие истории предполагают свою собственную обобщающую герменевтику. И когда Павел поверил в то, что Бог Израиля наконец послал Своего Помазанника быть справедливым господином мира, столкновение миров и перерождение образов стало неизбежным, что привело к новым богословским, а также политическим вопросам и перспективам. В своем отношении к претензиям Рима Павел твердо держался рамок иудейской традиции.
В то же самое время имперская идеология и культы Рима в вопросах философии и идеологии питались главным образом за счет эллинистического мира. Мы ни в коем случае не должны упустить из виду тот факт, что подавляющему большинству обитателей империи – и солидной части жителей столицы в том числе – греческий служил родным, а нередко и единственным языком общения. Павел жил, трудился, мыслил и писал в рамках сложного и запутанного мира. Хотя фраза «для всех я сделался всем» теперь часто воспринимается как готовность подставлять паруса всем ветрам, Павел выражался в более функциональном смысле. Ему было вверено иудейское послание для всего мира, и для донесения послания в определенной степени требовалось воплощение (способами, которые и тогда вызывали, и сейчас вызывают у некоторых сильное недоумение) идеи о том, что единый истинный Бог Израиля простирается до всех уголков языческого мира. Павел оставался убежденным монотеистом и, как мы рассмотрим ниже, в полной мере исследовал и разрабатывал эту традицию.
Вместе с тем это был пугающе пересмотренный монотеизм. К трем мирам, формирующих контекст служения Павла, мы должны присовокупить четвертый, уже существующий к моменту его обращения, – мир, который представлял собой, как можно предположить, столь же возмутительное положение дел. Павел принадлежал к семье Мессии, к народу Божьему, который он сам называл экклезией – «вызванными». Это название в некоторых (не во всех) смыслах соответствовало и общинам иудейских синагог, и гражданским собраниям в языческом мире. Павел тратил немало усилий, с разных углов зрения доказывая, что, хотя этот новый народ состоял из истинных потомков Авраама, хотя он объединял людей, которые вели обычную жизнь в языческом мире, и хотя он существовал в условиях империи кесаря, он имел иную природу, отличную от этих обстоятельств.
Она не определялась ни этническим происхождением, ни социальным положением; это не было ни клубом, ни культом, ни гильдией, хотя посторонние часто воспринимали новое образование именно в таком смысле. Церковь, собрание Иисуса-Мессии, формировала (согласно мышлению Павла) свой собственный мир, который уникальным образом взаимодействовал с тремя остальными мирами, во многих смыслах черпая из них свою динамику, что приносило апостолу так много проблем. Но об этом чуть позже. Для Павла «быть в Мессии», принадлежать к Телу Мессии, означало принятие самосознания, укорененного в иудаизме, обитающего в эллинистическом мире и противопоставляющего себя претензиям кесаря на мировое владычество. Вместе с тем, оно не было простой комбинацией аспектов этих трех миров. Павел настаивал бы, что четвертый мир уникален в своем роде, и эта уникальность опирается на саму личность Иисуса и его объединяющую роль в качестве Мессии.
Итак, до сих пор мы рассматривали мир Павла. Как должно быть очевидным, этот мир целесообразно описывать на языке его множественных накладывающихся друг на друга, иногда конфликтующих рассказов: рассказ о Боге и Израиле из иудейской традиции; из греко-римского мира – языческие истории об их богах и миропонимании, имплицитные рассказы, вокруг которых вращалось самосознание отдельных язычников; и в особенности великие повествования империи – и широкомасштабные, которые мы встречаем у Вергилия, Ливия и других авторов, и более скромные, местного значения, рассказы.
Итак, до сих пор мы рассматривали мир Павла. Как должно быть очевидным, этот мир целесообразно описывать на языке его множественных накладывающихся друг на друга, иногда конфликтующих рассказов: рассказ о Боге и Израиле из иудейской традиции; из греко-римского мира – языческие истории об их богах и миропонимании, имплицитные рассказы, вокруг которых вращалось самосознание отдельных язычников; и в особенности великие повествования империи – и широкомасштабные, которые мы встречаем у Вергилия, Ливия и других авторов, и более скромные, местного значения, рассказы.
Точно так же этот мир можно описывать на языке его символов: тех, которые использовались в контексте иудаизма, Храма, Торы, священной земли и семьи; многочисленных существующих в рамках язычества символов нации, царства, религии и культуры; стоящих особняком символов Рима – от монет и арок до храмов и воинской мощи, – которые свидетельствовали о могуществе империи. К ним можно добавить характерные обычаи этих пересекающихся культур – и жизненные уклады, которые выражали и воплощали личные возвышенные устремления, а также служили для банального выживания, и порядки, возникшие в результате конкретных социальных или этических учений. Наконец, стоит задуматься над ответами, которые можно было бы ожидать в контексте всех этих культур, на великие вопросы, служащие основанием для любого мировоззрения: кто мы? где мы? что не так? каково решение? сколько времени? В другом своем труде я приводил анализ этих четырех аспектов мировоззрения (рассказ, символ, обычаи и вопросы), и хотя в этих лекциях мы не можем подробно разбирать их в приложении к мышлению Павла, важно помнить о них как о системе координат, на которую мы время от времени будем ссылаться.
На данный момент я хочу сказать чуть больше о первом из этих уровней. В последние годы немало внимания посвящается нарративному осмыслению наследия Павла, и я считаю это одним из ключевых элементов в исследованиях, которые стали известны под названием «нового взгляда» на Павла. Нынешний интерес можно отследить по меньшей мере к докторской диссертации Ричарда Хейза. Исследовав имплицитную сюжетную линию, втиснутую в несколько чрезвычайно глубокомысленных фрагментов Послания галатам, Хейз утверждал, что Павел опирался на более пространный рассказ (подвергнув его сжатию), в котором решающую роль играли смерть и воскресение Иисуса (и, в частности, Его «верность»). Но как только нарративного джина выпустили из бутылки в мир, глаза которому открыла современная теория литературы, назад его не загнать. А потому теперь все аспекты текстов Павла исследуются на предмет наличия имплицитных и эксплицитных сюжетных линий.
Невзирая на желания и усилия отдельных личностей, эти исследования нельзя отбрасывать ни как вчитывание в тексты Павла чуждых ему идей, ни как простую постмодернистскую прихоть. Данный подход определенно не сводит мышление Павла, как некоторые смутно намекали, к миру «рассказа» в противопоставлении «учению» с одной стороны, или реальной жизни – с другой. Возьмем очевидный пример: еврейская литература, начиная с библейских текстов и до наших дней, насквозь пропитана ключевыми историями – такими как рассказы об Аврааме, исходе, пленении и возвращении. А значит даже небольшая аллюзия в еврейском тексте на один из этих рассказов – вполне четкое указание на необходимость воспринимать хотя бы косвенное присутствие на заднем плане всего повествования. Встречая аллюзии на те же истории у Павла, мы просто обязаны проследить за ними, чтобы обнаружить повествовательную действительность, которая для него была само собой разумеющейся. В отношении иудаизма эпохи Второго храма мы должны противостоять опасливому минимализму, который угрожает свести науку к боеготовому молчанию. Нет смысла стоять, дрожа, на той части берега, которую еще не накрыла приливная волна нарративного прочтения. Единственный путь к безопасности, каким бы парадоксальным он ни казался, – нырять и плыть.
Обращение к принципам повествования является одним из наиболее важных достижений революционных свершений «нового взгляда», которые зашли дальше, чем сам Сандерс говорил или (как мне кажется) даже думал. Я намерен настаивать, что это достижение следует рассматривать и как этап развития «нового взгляда», и как центральный (а не иллюстративный или периферийный) элемент паулинистики. Вместе с тем, крайне важно подчеркнуть, что это вопрос исключительно исторический. Понимание роли рассказов в древнем мире и того, как малейшая аллюзия могла вызвать и вызывала к жизни весь исторический нарратив, включая повествование, которое автор и слушатели считали своей средой обитания, – очень важный инструмент в исследованиях.
Здесь я хочу сослаться на потрясающую новую книгу о Нероне принстонского профессора Эдварда Чемплина, в которой он, параллельно Занкеру и другим, весьма подробно излагает то, как многочисленные и разнообразные мифы древней Греции и Рима действовали на мышление обычных людей, так что даже косвенная отсылка к Энею, Агамемнону, Оресту, Эдипу и другим персонажам мгновенно вызывала в воображении аудитории (например, когда Нерон выходил на сцену в амплуа того или иного мифического героя) всю сюжетную линию, которую нам приходится восстанавливать с трудом, шаг за шагом, а простые люди того времени знали ее безо всяких усилий. Как пишет Чемплин: «Лексика мифа была настолько привычной для повседневной жизни людей всех сословий – и высоких, и низких, что она служила самой твердой валютой общественного сознания. Она служила простым, универсальным языком, который был понятен любому человеку».
То, как это действовало в жизни самого Нерона и какое влияние имело на его претензии, оказывает очень важное влияние на исследования раннего христианства во многих смыслах, не в последнюю очередь затрагивая, естественно, книгу Откровение. Но для наших нынешних целей я буду настаивать, что имплицитные «рассказы», к которым Павел обращается в Рим 4 и Гал 3, где очевидно подразумевается все повествование об Аврааме как об отце истинного народа Божьего (хотя вы никогда не услышите ничего подобного от критиков «нового взгляда», как и от самого Сандерса), и в не столь уж очевидных текстах – как, например, цитата из Пс 115 в 2 Кор 4:13 – были совершенно понятны Павлу и его первым читателям. Даже небольшие вариации фразы могут серьезно изменить смысл высказывания. Помню, как я слушал выступление политика, который говорил о работе полиции, время от времени упоминая «север Ирландии», и понимал, что у него есть серьезные причины не произносить вслух «Северная Ирландия», не говоря уж об «Ольстере». И Павел не просто приводит аллюзии на некие широко известные рассказы. Некоторые критики повествовательного прочтения Павла реагируют так, словно нарратив – это некий художественный узор вокруг основных богословских тем, которые нельзя воспринимать как повествование.
Я намерен утверждать, что весь смысл Павлова корпуса заключается именно в том, чтобы показать: с приходом, смертью и воскресением Иисуса Мессии началась новая глава в том повествовании, в котором он сам жил. Понимание этого повествования и того, сколь радикально новым явлением является в нем эта глава, дает возможность уяснить все, что Павел говорит, в том числе о вопросах оправдания и закона, которые становились предметом раздора в битвах приверженцев и противников «взгляда». Отказ допустить повествовательную критику в эти битвы сродни отказу залить бензин в бак, поскольку все и так знают: чтобы ехать на автомобиле, нужны руль и четыре колеса.
Конечно, мы продолжим спорить о том, что служило доминантным нарративом, и как его понимал Павел. Но как я и другие показали, великие рассказы об Аврааме, исходе, Давиде (этот, естественно, всегда вызывает особое сопротивление) и о плене и возвращении из плена (этот, естественно, даже больше предыдущего) не просто создают яркий повествовательный занавес, с которого можно произвольно брать мотивы для создания откликающейся типологии. В гораздо более глубоком смысле они являются частями единой сюжетной линией повествования (при наличии типологических отсылок, она к ним не сводится), в рамках которого, как он был убежден, протекала жизнь Павла и его современников.
Как Ливий повествовал о прежнем величии Рима, стараясь перевести взгляд современников на новый мир Августа; как кумраниты (здесь даже больше подобия) рассказывали о пророчествах Израиля, заявляя, что обещания возвращения из плена свершаются именно в их общине; как автор 4 Ездр предложил иное прочтение книги Даниила, параллельно с намеками, звучащими у Иосифа Флавия, чтобы заявить, что долгая апокалиптическая драма ныне достигла развязки, так и Павел припоминает великие истории Бога, Израиля и мира, потому что его взгляд на спасение (включая оправдание и все остальное) – это не неисторическое построение о том, как люди вступают в правильные отношения с Богом. Скорее в нем звучит рассказ о том, как Бог Авраама наконец исполнил Свои обещания посредством апокалиптической смерти и воскресения Своего возлюбленного Сына. Как мы увидим в главе 3, то, что некоторые называют «апокалиптикой» (ее правильное понимание определяется контекстом первого века), находится в центре богословия Павла.

Она не обрубает преемственность, исполнение обещаний в рамках Павлового богословия завета, а скорее дополняет и исполняет его, не давая ему скатиться, как это происходит в реформатской традиции и некоторых версиях «нового взгляда», в такой позитивизм по отношению к преемственности, в котором не остается места Павловому ударению на крестную смерть Мессии и последующей критике всякой человеческой гордыни и любой системы.
Нарративный поворот в паулинистике, таким образом, является, по-моему, одним из самых значимых достижений в мире, открытом «новым взглядом». Он вполне соответствует прочтению Павлова использования Ветхого Завета, заново открытого Хейзом и другими, в котором (как во многих иудейских и неиудейских – что убедительно доказал Чемплин – текстах) легкий намек мог воссоздать в памяти целый мир. Конечно, это один из моментов, в котором данное развитие «нового взгляда» совершенно противоречит экзегетическим предложениям самого Сандерса. Он предположил, что Павел цитировал Ветхий Завет более или менее произвольно, не обращая внимания на контекст, – он якобы пролистал свою умственную симфонию в поисках библейского подтверждения для своего богословия оправдания верой и обнаружил два стиха, в которых слова «праведность» и «вера» стояли рядом (речь идет о Быт 15 и Авв 2).
Трудно спорить с подобной решимостью не видеть того, что на самом деле присутствует в этих текстах. Часто главным аргументом в экзегезе того или иного текста может служить готовность читать его в «нарративных» очках, благодаря которым проступит трехмерная реальность, в отличие от плоской и расплывчатой картинки, которая получается без них. В подобных случаях мы должны быть более уверенными, чем это иногда бывает, в имплицитной структуре «гипотеза-обоснование» различных спорных моментов.
Привлечение внимания на основообразующую нарративную структуру мышления Павла, таким образом, не сводится к распознаванию имплицитных рассказов в его текстах и извлечению скрытого смысла для детального исследования. Происходит нечто куда более глубокое, более революционное, когда мы беремся за раскопки в этих имплицитных историях, и я подозреваю, что именно сопротивлению этому элементу и вызывает в настоящее время сопротивление нарративной критике вообще и нарастающее противодействие так называемому «новому взгляду» в частности. Главная мысль по поводу нарративов в мире иудаизма эпохи Второго храма (и мышлении Павла) заключается не просто в том, что людям нравилось пересказывать рассказы в качестве иллюстраций или библейских подтверждений того или иного духовного опыта или доктрины, а в том, что верующие иудеи эпохи Второго храма считали себя актерами на сцене нарратива, происходящего в жизни.
Если выразиться иначе, они не были просто рассказчиками, которые использовали свой фольклор (в их случае, это была Библия), чтобы проиллюстрировать радости и печали, испытания и победы повседневной жизни. Их рассказы функционировали типологически, то есть предлагали пример, который можно было наложить в качестве шаблона на события и истории из другого периода времени, не имеющие исторической преемственности, чтобы связать два разных периода воедино. Однако главной функцией рассказов было напоминание о ранних и, как они надеялись, характерных моментов в едином, более широком повествовании, которое тянулось с сотворения мира и призыва Авраама до их дней и, как они надеялись, простиралось в будущее.
Если мне можно рискнуть, озвучив две до абсурда разные аналогии, люди первого века были не столько в положении одинокой юной девушки, которая, читая «Джейн Эйр», мечтает о повторении поворотов сюжета книги в ее жизни, сколько походили на игрока в крикет, который вот-вот должен выйти с битой в матче, предыдущая история и прежние эпизоды которой подготовили игру к свежим действиям, что должны привести ее к логичному завершению. Можно без труда продемонстрировать, например, что о различных прочтениях Рим 4 можно судить на основании того, как воспринимается рассказ об Аврааме: он служит простым библейским доказательством учения об оправдании верой, или чем-то большим?
В следующей главе я собираюсь доказать, что Павел думает обо всей истории в Быт 15, и в нескольких последних стихах показывает: история, которая началась тогда, теперь достигла решающей стадии – есть все предпосылки для победы в матче. Можно также отметить эффект, который возымели события 70 г. и 135 г. – они намертво остановили имплицитный нарратив, в котором жили иудеи эпохи Второго храма, чем создали новую форму нормативного иудаизма, которому было суждено найти выражение не в столько в нарративе, сколько в деисторизированном объяснении закона. Но во времена Павла повествовательная составляющая действовала на все сто. Он, как и многие его иудейские современники, с нетерпением хотели узнать, куда именно повернул сюжет, и какую роль они должны играть в нем.
Это в свою очередь основывается – и я считаю это основополагающим принципом всего мировоззрения Павла – на уверенности, что единый истинный Бог является творцом, владыкой и грядущим судьей всего мира. Монотеизм в иудейском стиле (творение, владычество и суд), который Павел, переосмыслив, утверждает, создает именно такой смысл основообразующего нарратива – историчного, хотя и незаконченного, рассказа о творении и завете, который отдельные рассказы (например, об Аврааме и исходе) дополняют и усиливают, но выходящего за рамки простой типологии в непосредственную историческую преемственность. По сути, в этом и был смысл большей части литературы, написанной в плену и в послепленный период. Бог не оставил Свой народ, отправив его в Вавилон.
Литература времени Второго храма обеспокоена именно тем, чтобы заново пересказать рассказ, показывая, как сюжет развивается и, возможно, достигает кульминации. Если мы не признаем этот фактор и с самого начала не включим его в свое понимание Павла и его иудейского окружения, у нас не будет и малейшего шанса уяснить основы его мышления. И если, как это часто происходило, мы заменим его доминирующие нарративы выдержками из других традиций и культур, мы напросимся на герменевтические проблемы.
Именно этот элемент поможет нам и по-новому изложить «новый взгляд», и отразить атаки ставшей стандартной критики «взгляда». Есть нечто забавное в том, что ни Э. Сандерс, ни Джеймс Данн, два ведущих проповедника так называемого «нового взгляда», не развили нарративное понимание корпуса Павла, которое предложили Хейз и другие, включая меня. Об этом чуть позже – в частности, во второй главе, когда мы будем рассматривать творение и завет в качестве главных интегрированных в мышление Павла тем, доказывая его взгляд на спасение не как вне-историчное спасение от мира, а как транс-историчное искупление мира. В этой точке единый рассказ, начавшийся с сотворения мира и движущийся вперед через завет, достигает, по нашему мнению и мнению Павла, своего исполнения.
Я хочу сказать, что в нарративном прочтении Павла важно не столько наличие имплицитных рассказов в его текстах (что трудно отрицать), сколько то, с какими рассказами нам приходится иметь дело, и какую роль они играют и в корпусе Павла, и в иудаизме. По сути, мы могли бы даже утверждать, что тип рассказов меняется в прямой зависимости от предполагаемого содержания, но это также следует оставить для иного случая.
Исполнение завета, вылившееся в заключение нового завета и новое творение, достигнуто, по мнению Павла, смертью и воскресением Иисуса. В третьей главе я собираюсь утверждать, что Павел понимал эти события и мессиански (Христос у Павла обозначает «Мессию»), и апокалиптически. Что в свою очередь указывает – как и следует ожидать и в мессианском иудаизме, и в апокалиптическом иудаизме – на противостояние евангелия Иисуса и евангелия кесаря; это и станет темой четвертой главы. Вторая, третья и четвертая главы, таким образом, будут посвящены анализу центральных тем доминантного имплицитного рассказа, или по крайней мере одного из доминантных имплицитных рассказов – иудаизма Второго храма, – и мы покажем, как Павел изменил их, превратив в свой собственный рассказ. Это и было сутью его труда, когда он, движимый радостной вестью Иисуса и (как он бы добавил) силой Духа, провозглашал иудейского Мессию в мире, который греки учили думать, а Рим заставлял в страхе подчиняться.
2. Споры о богословском наследии Павла: взгляды прежние, новые, иные
Вопрос наследия Павла принципиально сложнее вопроса мира, в котором он жил, но большая часть этих сложностей выходит за пределы и этой книги, и моей компетенции. Как и очень многие специалисты по Новому Завету, я плохо знаком с экзегезой Павловых текстов всех авторов, за исключением нескольких отцов Церкви и реформаторов. В Средние века, а также в восемнадцатый и девятнадцатый века многим было что сказать о Павле, но я не читал их труды. Кроме того, сегодня есть опасность увлечься научной интерпретацией современного имперского мира ввиду того, что центр научного богословия сместился из Германии, который был там, когда я начинал работу над докторской диссертацией тридцать лет тому назад, в США.
Потенциально это утверждение может ввести в заблуждение, поскольку много работы все еще делается в Европе, не говоря уж о широком спектре трудов из стран третьего мира, особенно из Африки. Прежнее господство немецких ученых, которое, как становится очевидным при ретроспективном взгляде, было движимо безотлагательными нуждами Веймарской республики, нацисткого периода и послевоенного восстановления, должно предупредить нас об опасности цепляния вагонов за локомотив научных кругов. Отсюда и возникают впечатляющие имплицитные вопросы и нарративы о любом современном обществе, которое противопоставляет себя остальным, особенно, если это общество занимает положение непререкаемого владычества.
 Но нельзя быть в двух местах в одно и то же время, а потому, признавая и оплакивая ограниченность наших взглядов, мы должны делать все как можно лучше, доверясь прекрасной фразе Киплинга, что есть время рисовать «какой ты видишь эту Землю, – Ему, велевшему ей быть!»
Но нельзя быть в двух местах в одно и то же время, а потому, признавая и оплакивая ограниченность наших взглядов, мы должны делать все как можно лучше, доверясь прекрасной фразе Киплинга, что есть время рисовать «какой ты видишь эту Землю, – Ему, велевшему ей быть!»
То, «как я вижу» Павла, конечно же, сильно обусловлено, как и вся современная западная библеистика, дискуссиями о его трудах в Европе и Северной Америке за последние двести лет. Живя в эпоху постмодернизма, мы можем раздражаться по поводу своей рабской привязанности к Просвещению, но выбраться на свободу возможно, лишь бросив вызов поработителю. Моисею пришлось иметь дело с фараоном, а не с правителем другой страны. Именно из эпохи Просвещения происходят главные темы обсуждения Павла, которые распадаются на четыре категории: история, богословие, экзегеза и релевантность.
Эти категории часто перемешивали, но по сути между ними можно провести четкую разделительную черту. Одно дело – определить место Павла в истории и попытаться понять его социо-культурное окружение и религиозную составляющую (как его личный опыт, так и то, что он стремился насаждать) и их связь с другими движениями его времени. И совсем другое дело (хотя, естественно, пересекающееся с предыдущим) – попытаться описать модель его мировоззрения и богословия, очертить контуры его высказываний о Боге и мире, о зле и решении проблемы зла, о том, что значит быть человеком и как можно быть человеком в более полном, или более истинном смысле. Таковы постоянно требующие ответа богословские вопросы в любой традиции, хотя, как ни удивительно, большинство людей не осознают этого факта. А ведь вдобавок к описанию мировоззрения следует уточнить, как конкретные исторические обстоятельства вызывали у Павла различные, но взаимосвязанные выражения его богословия. История и богословие в любом мировоззрении, которое опирается на иудаизм, обречены влиять друг на друга, но это не взаимозаменяемые понятия. Обе дисциплины питаются от экзегезы, третьей, совсем иной сферы деятельности, и, в свою очередь, питают ее; экзегезу я считаю и началом, и завершением богословской задачи.
История, богословие и экзегеза всегда делаются – не только иногда, и не только проповедниками – пусть с прикрытой, но оглядкой на результат, который возникнет в мире самого исследователя. Те, кто считает Павла назойливым, противоречащим самому себе невротиком, перескакивающим с одной темы на другую, столь же рьяно хотят убедить своих слушателей, что они должны видеть апостола таким же (чтобы, например, они могли бодренько отбросить этическое учение Павла), как и те, кто считает каждое слово апостола исходящим непосредственно из уст Божьих. Нейтралитет невозможен.
Принцип неопределенности Гейзенберга, согласно которому акт наблюдения за объектом меняет сам объект наблюдения, что по определению делает точные измерения невозможными, проник в постмодернистскую теорию критики и начал буравить тоненькой булавкой замковые стены имперского объективизма. Как я утверждал в другом труде, единственный способ двигаться вперед с этой точки состоит в принятии крепкого критического реализма, в рамках которого возникает историческая и богословская эпистемология – отодвинутая как можно дальше от воскрешенного позитивизма, предлагаемого в одних кругах, и восторженного субъективизма, проталкиваемого в других. А эффективность этого реализма зависит от силы рассказов, которые он озвучивает.
Невозможность нейтралитета в паулинистике легко обозначить в пределах двадцатого века. Альберт Швейцер неслучайно рассматривал раннее христианство в свете иудейской апокалиптики, или, по крайней мере, ницшеанского понимания оной. Неслучайно Рудольф Бультман подхватил хайдеггерский экзистенциализм именно тогда, как он это сделал, и неслучайно он читал Павла в свете именно этой философии. Неслучайно У.Д. Дэвис написал свою переломную книгу «Павел и раввинистический иудаизм» в тот самый момент, когда начали вслух говорить о нацистском холокосте, а Европа стала отворачиваться от неоязычества, породившего этот кошмар, и задаваться вопросом, не было ли столь отрицательное восприятие иудаизма ужасной ошибкой. Неслучайно, для того же времени, швед-лютеранин Кристер Стендаль бросил вызов доминирующей немецкой лютеранской традиции в своей знаменитой статье «Павел и интроспективная совесть Запада», а Эрнст Кеземан поддержал ее, озвучив предостережение, что заменить «историю-спасение» оправданием – значит последовать по пути, избранному немецкими христианами, которые поддержали Гитлера.
Подразумеваемый моральный водораздел двадцатого века (дескать, изучите идеи, которые питали Гитлера, и сторонитесь даже малейшего их подобия) тогда и возник, и продолжает возникать, когда бы ни заходила речь об иудаизме и Павле. В паулинистике продолжаются те же самые споры, например в непреклонном отстаивании Дж. Луи Мартином того, что некоторые называют «апокалиптикой», перед тем, что некоторые называют «заветом»; и стоит только упомянуть слово «суперсессионизм», как в памяти всплывают трубы Освенцима. Совсем неслучайно, что в 70-х годах в США Э.П. Сандерс а) говорил об иудаизме и богословии Павла в категории «образцов религии», б) защищал иудаизм от обвинений в том, что в нем был один конкретный образец религии, в) предлагал гипотезу, что Павел не так уж сильно расходился с иудаизмом, и что существующая дистанция возникла скорее в результате личного опыта, чем последовательного богословского осмысления принципиальных основ. Неслучайно этот взгляд ракетой взлетел в Америке и многих частях Британии, а в Германии лишь потрещал, как отсыревшая шутиха; однако это не значит, что в Америке следует принимать законы, запрещающие все современные фейерверки, и ограничиваться старыми фильмами об экзегетических пиротехнических средствах из шестнадцатого века. Естественно, сам по себе неопуританизм – явление, усвоенное из культуры.
Не свободны от контекстуальных и культурных вопросов и нынешние приливы энтузиазма. Неслучайно Ричард Хейз стал первопроходцем и в нарративном подходе к Павлу, и в свежем понимании того, как апостол использовал Ветхий Завет, после многих лет вдыхания постлиберального и церковного воздуха Йельского университета. Неслучайно Троэлс Энгберг-Педерсен из Копенгагена энергично проталкивал новое прочтение Павла, которое лишь слегка опиралось на традиционные иудейские или христианские представления, а основной его вес ложился на языческую философию первого века. Определенно неслучайно то, что Ричард Хорсли предложил новаторское политическое прочтение Павла из университета в Бостоне, где считается аксиомой, что современная монолитная американская империя если и не является источником всякого зла, то во всяком случае является одним из главных его проводников. И, повторимся, неслучайно некоторые стараются отмести новое прочтение как простую левацкую прихоть. Наконец, неслучайно подавляющее большинство христиан по всему миру в наши дни читают Павла в блаженном неведении всех этих движений и контр-движений.
Находятся ли они поэтому в лучшем положении? Ни в коем случае. Лишь начав с предположения, что нам требуется безупречно чистая объективность, мы приходим к выводу, что эта серия «неслучайностей» сводит предыдущие исследования к бесполезной куче слов. Тот факт, что читателей этой книги поджидают всякого рода «неслучайности» (если мне будет позволено так выразиться), не значит, что в них нет никакой ценности. Я не явлюсь ни детерминистом, ни нигилистом. Тот факт, что мы можем осмысленно вычленить все эти сдвиги мышления в культуре, происходящие за последние двести лет, можно даже воспринять как доказательство того, что милосердное Провидение так направляло дела мироздания, чтобы свежий свет постоянно лился на Писания, хотя в этом и есть риск детерминизма иного рода.
Я склонен настаивать на трех построениях. Во-первых, есть такое понятие как тексты; сколько бы мы их не анализировали, они постоянно ставят перед нами новые задачи, и корпус Павла имеет особенно внушительный послужной список в этом смысле. Во-вторых, есть такое явление как свежее и убедительное прочтение текстов; новая пара глаз с новой мотивацией смотрит на знакомые слова, но видит незнакомые истины, и тогда (этот момент нельзя недооценить) принимается тестировать их – притом не только на тех, кто разделяет культурные и религиозные предрасположенности читателя, но и на тех, кто их не разделяет.
Вынос научных исследований на публику – это элемент стремления к просвещению (невзирая на опасность банального столкновения) гетто, замаскированного под мир. И, в-третьих, я верю в таинственную, непредсказуемую и обычно сокрытую работу Святого Духа. Было бы нелепо исключить этот фактор из дискуссии о Павле; это как если бы кто-то взялся обсуждать сонаты Бетховена, исключая возможность существования фортепиано. Даже если кто-то не может сам играть на пианино, он должен признать, что в обсуждении музыки пианист имеет преимущество.
Тот факт, что мы все живем в культурных контекстах, и что некоторые идеи воспринимаются в определенных месте и времени лучше, чем в других, не может служить причиной для уныния или замыкания в своих приватных мирках. Напротив, отсутствие необходимости добиваться невозможной объективности должно вызывать облегчение. Мы можем довольствоваться, с одной стороны, честным признанием своей отправной точки и, с другой стороны, неумолимой необходимости публичного, а не просто приватного, дискурса. Экзегезе нужны как Ван Гоги, так и Рембрандты; возможно также свои Пикассо и Трейси Эмины. Даже Голлум оказался полезным спутником по дороге к Темной Башне.
Нельзя сказать, что нет различий между хорошей экзегезой и плохой, хорошей историей и плохой, хорошим богословием и плохим. Мы просто признаем, что эти различия не так просто очертить, как нам обычно кажется, и одновременно доказывать свои взгляды настолько убедительно, как только можем, и охотно признавать, что они могут быть не только неадекватными (с этим вообще никто не спорит), но в определенном смысле приводить к заблуждению. Говоря это, я снимаю шляпу перед Эрнстом Кеземаном, который в предисловии к своему важнейшему труду заявил, что, достигнув пределов, для него установленных, он признает условность своих взглядов и трудов, а потому с готовностью освобождает путь для других. Когда я первый раз прочел эти слова, я решил, что он струхнул и решил отступить перед реальным вызовом. Теперь же вижу, что он принимал куда более великий вызов.
Но если наши убеждения таким образом становятся относительными, то настало самое время задуматься над «незыблемыми истинами» научных исследований, которые проросли в наше время из совершенно иной эпохи. Возможно, их существование обусловлено не столько наличием логичной аргументации, сколько приверженностью к традиции (и страхом, что тебя сочтут не очень ученым, если ты посмеешь бросить вызов этой традиции). Возьмем, к примеру, широко распространенное мнение все еще обычное для определенных кругов, что не только Ефесянам, но и Колоссянам написаны не самим Павлом, хотя и могут содержать материал, изначально принадлежащий ему. Есть, конечно же, много интересных утверждений, которые можно было бы сделать на этот счет.
Но наши подозрения должны усиливаться ввиду того факта, что данный вывод возник в то время, когда преобладающие позиции в богословии занимало немецкое экзистенциалистское лютеранство, для которого любая экклезиология за исключением сугубо функциональной, любой взгляд на иудаизм за исключением сугубо отрицательного, любой взгляд на Иисуса Христа за исключением довольно приземленной христологии и любой взгляд на творение за исключением бартианского «отрицания» вызывали глубокое подозрение. Ложное, как мне кажется, противопоставление «либо-либо» – оправдание/церковь, спасение/творение – нависало над более мелкими аргументами (которые в любом случае всегда неубедительны ввиду небольшой текстуальной основы) из стиля.
Ярко выраженные стилистические различия между первым и вторым посланиями Коринфянам гораздо отчетливее, чем, скажем, между посланиями Римлянам и Ефесянам, но никто по этой причине не спорит, что одно из них написано не Павлом. В частности, предположение, что «высокая христология» обязана подразумевать более позднего автора, исключающее Павла, было привнесено в текст, а не обнаружена в нем.
И суждение, которое в последнее время получило широкое распространение (особенно в Северной Америке), что Ефесянам и Колоссянам – вторичны, ибо переходят от конфронтации с Римской империей к коллаборационизму с ней же, откровенно абсурдно. Во многих трудах по «новому взгляду» важные выводы, полученные в рамках прежних суждений, были приняты как данность и воспроизведены; авторы словно и не заметили, что новый взгляд ставит их под вопрос.

Согласно метафоре, предложенной Робертом Морганом тридцать лет тому назад, наступает время, когда шахматные фигуры нужно вернуть на доску, чтобы можно было начать игру заново. Я полагаю, что когда речь заходит о корпусе Павла, мы уже дождались этого времени. То же самое, считаю я, касается и вопроса Павлового материала в Деяниях апостолов. Однако эти программные заявления шире формата этой книги, потому что, хотя я буду иногда обращаться к Ефесянам и Коллосянам и даже временами к Деяниям, большая часть важных выводов будет опираться на общепризнанные послания Павла. И если кажется, что я подталкиваю к тому, чтобы кто-то высунул голову из окопа, хотя сам так сделать не желаю, мое единственное оправдание заключается в том, что в определенном смысле мне приходится соответствовать стереотипу епископа, который я в большинстве случаев все же пытаюсь разрушить.
Определяя нашу дискуссию рамками современной культуры, мы должны сказать о постоянном напряжении между центром и периферией, между абстрактным богословием и богословием практическим или посланиями, написанными в определенной ситуации. К нему я также отношусь как к ложному противопоставлению «либо/либо», вызванному скорее, как мне кажется, элементами нашей культуры или даже личностными качествами – элементами, которые склоняют одних к систематическим заявлениям, а других – к раскованной и беспечно непоследовательной ситуационной реакции. Иногда среди библеистов можно встретить врожденную подозрительность к систематическому богословию, которое, боюсь, вытекает скорее из воспоминаний о «системках» воскресной школы, чем из настоящего знакомства с богатым и рафинированным миром современной систематики. Иногда можно встретить и противоположную подозрительность к ситуационности, вызванную скорее страхом перед нравственным хаосом, чем рабочим знанием настоящей исторической экзегезы.
Мое личное знакомство с Павлом заставляет меня подозревать, что он был бы в замешательстве от подобных различий. Конечно, он сказал бы, что все послания были написаны конкретным церквям в конкретных ситуациях. Это касается даже послания христианам Рима – возможно, его это касалось в первую очередь. Но это ни в коем случае не значит, что он отказался бы от факта выражения последовательного послания во всех своих письмах, хотя оно и требовало уточнения в нюансах тут и там, в зависимости от ситуации. Любой, кому приходилось проповедовать перед разными собраниями, и кто занимался пасторским попечением с разными группами людей, прекрасно знает, что в тот самый момент, когда встает некая особенная ситуация, необходимо особенно четко высказать самое главное и непреложное. Можно чуть ли не сформулировать общее правило: чем специфичнее ситуация, тем острее потребность в возвращении к ключевым истинам, пусть даже изложенным по-новому.
Я сознательно говорил пространнее о контексте, в котором происходили споры о наследии Павла, чем о самом наследии. На метауровне наследие Павла использовалось для того, чтобы церковь была наготове: поскольку он бросает столько вызовов, апостол как бы отказывается допустить, чтобы мы успокоились, полагая, что все понятно. И то, что мы никак не можем понять, особенно нам необходимо, если мы не хотим опоздать на поезд. Чем больше мы размышляем о разнообразии прочтений Павловых текстов за все годы, особенно последние, тем сильнее нас должно привлекать очень плотное историческое повествование о реалиях тогдашнего мира (в наши дни это иногда называется «плотное описание»), тщательно выверенное понимание элементов его богословия, внимательное и скрупулезное прочтение его писем и не имеющее запретов уяснение того, что все это может означать в двадцать первом веке. Данная книга не позволит сделать больше, чем малую толику из всего этого, но важно, чтобы читатели осознали более широкий набор задач, которые она хоть как-то затронет. И поскольку для того чтобы начать путь лучше всего разложить карту, чтобы увидеть все шоссе и тропинки, в следующей главе мы начнем рассматривать две взаимосвязанные темы, которые проходят с начала корпуса Павла (да и всей Библии) до конца: творение и завет.
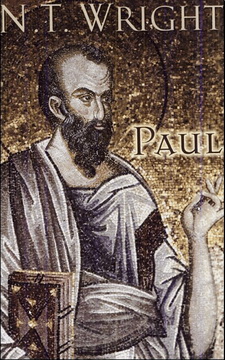




Комментарии
Пока нет комментариев. Будьте первым!