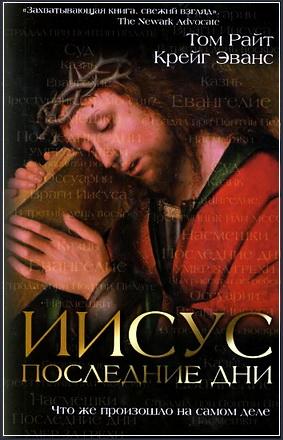
Studia Religiosa - Возникновение секулярного - Философия эзотеризма - Знак священного
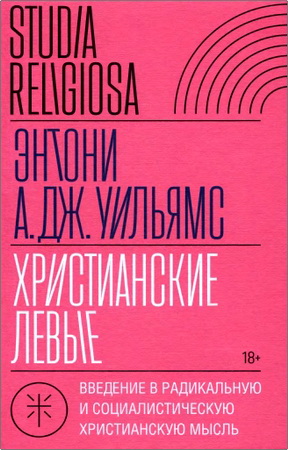
В июне 2020 года президент США Дональд Трамп устроил фотосессию у здания епископальной церкви святого Иоанна в Вашингтоне. В разгар протестов Black Lives Matter, охвативших Вашингтон и центры других городов после расистского убийства Джорджа Флойда неделей ранее, Трамп прошел от Белого дома до церкви, подержал Библию перед собравшейся прессой, а затем вернулся обратно. Цель этого «религиозного перформанса» состояла в том, чтобы продемонстрировать свою религиозность и верность христианству избирателям из числа белых евангелистов.
Многие среди них (три четверти из которых отдадут свои голоса за Трампа в ноябре) предсказуемым образом пришли в восторг от этого президентского перформанса. Один из них, республиканский кандидат в сенат Флориды, описал радость его семьи, наблюдавшей за Трампом по телевизору: «Моя мать просто кричала: ״Боже, дай ему сил! Он идет по Иерихону!“ <...> Моя мать заплакала <...> она начала глоссолалить. <...> Я подумал: ״Посмотрите на моего президента! Он устанавливает Царство Божие в мире“». В этом примере заключено все то, что мы знаем — или думаем, что знаем, — о связи христианства и политики.
Но посылаемые Дональдом Трампом религиозные сигналы впечатлили не всех. Первой критику озвучила Марианн Эдгар Бадде, епископ Епископальной церкви в Вашингтоне.
Я просто хочу, чтобы мир знал, что в вашингтонском диоцезе мы, следуя Иисусу и его пути любви <...> дистанцируемся от подстрекательских высказываний этого президента. Мы следуем за Тем, Кто прожил жизнь в ненасилии и жертвенной любви. Мы присоединяемся к тем, кто добивается справедливости за смерть Джорджа Флойда и многих других. <...> Позвольте мне внести ясность: президент только что без спроса использовал Библию, самый священный текст иудеохристианской традиции, и одну из церквей моей епархии в качестве реквизита для послания, противоречащего учению Иисуса.
Заявление епископов Епископальной церкви Новой Англии также критикует «позорные и отвратительные с точки зрения морали» действия Трампа; в нем утверждается, что миссия Церкви заключается в том, чтобы «служить высшей цели Господа нашего Иисуса Христа: распространять любовь, милосердие и справедливость на всех, и особенно на тех, чьей жизни, свободе и самой человеческой природе угрожают непрекращающийся грех систематического расизма и зараза белого превосходства». Такое взаимодействие христианства и политики полностью отлично от того, чего многие из нас обычно ждут.
Уильямс Энтони - Христианские левые: введение в радикальную и социалистическую христианскую мысль
Энтони А. Дж. Уильямс; пер. с англ. В. Федюшина. — Μ.: Новое литературное обозрение, 2023. — 272 с.
(Серия «Studia religiosa»)
ISBN 978-5-4448-2144-2
Уильямс Энтони - Христианские левые: введение в радикальную и социалистическую христианскую мысль - Содержание
Введение
- Библейская теология левого христианства
- Радикализм и социализм в Церкви
Глава 1. Дух братства: основания британского христианского социализма
- Истоки
- Церковный социализм
- Христианство и лейбористы
- Заключение
Глава 2. Кризис идентичности: социализм в послевоенной Великобритании
- Партийный раскол
- Реакция на тэтчеризм
- Возвращение почвы
- Два лика христианского социализма
- Заключение
Глава 3. Враждебное окружение: религиозный социализм в Европе
- Христианский социализм против Маркса
- Протестантская социалистическая теология
- Римский католицизм и социальное учение Католической церкви
- Международная лига религиозных социалистов
- Заключение
Глава 4. Что бы сделал Иисус? Евангелизм и социализм в Соединенных Штатах
- Социальный евангелизм
- Христианские социалисты
- Духовные социалисты
- Заключение
Глава 5. Моральное меньшинство: левое христианство в эпоху христианства правого
- Мартин Лютер Кинг и гражданские права
- Black Power
- Краснобуквенный евангелизм
- Заключение
Глава 6. Предпочтительный выбор в пользу бедных: теология освобождения в Латинской Америке
- Теологический, культурный и политический контекст
- Основы теологии освобождения
- Ключевые понятия теологии освобождения
- Теология освобождения, марксизм и христианский социализм
- Заключение
Глава 7. Свободу пленным: теология освобождения в мировом масштабе
- Теология освобождения в Азии и на Среднем Востоке
- Теология освобождения в Африке
- Феминистская теология освобождения
- Заключение
Глава 8. Что ждет левое христианство?
- Центральные понятия левого христианства
- Теологические вопросы
- Будущее левого христианства
Указатель имен
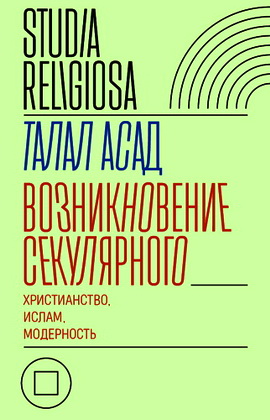 Какова связь «секулярного» как эпистемической категории и «секуляризма» как политической доктрины? Могут ли они стать предметами антропологического исследования? В чем бы могла заключаться антропология секуляризма? Данная книга представляет попытку предварительного обращения к этим вопросам.
Какова связь «секулярного» как эпистемической категории и «секуляризма» как политической доктрины? Могут ли они стать предметами антропологического исследования? В чем бы могла заключаться антропология секуляризма? Данная книга представляет попытку предварительного обращения к этим вопросам.
Актуальность религиозных движений по всему миру и лавина комментариев о них, продуцируемая исследователями и журналистами, с очевидностью показали, что в современном мире религия ни в коем случае не исчезает. «Возвращение религии» многие приветствовали как средство обеспечения необходимого, с их точки зрения, морального измерения секулярной политики и беспокойства об окружающей среде. Другие отнеслись к этой ситуации с тревогой и восприняли ее как симптом роста иррациональности и нетерпимости в повседневной жизни. Вопрос секуляризма стал предметом академических споров и практических разногласий. Если и существует согласие, то только в том, что прямолинейное повествование о прогрессе от религиозного к секулярному больше неприемлемо. Однако следует ли из этого, что секуляризм актуален не повсеместно?
Исламовед Райнхард Шульце как-то задал вопрос, который большинством историков принимался как само собой разумеющийся: почему реформаторы ислама в XIX веке настолько охотно приняли европейскую интерпретацию исламской истории как «упадка цивилизации»? Его ответ отсылает к политико-экономическим изменениям и культурным следствиям распространения печати. Он указывает, что европейский капитализм трансформировал способы получения излишков из ренты в систему неравного обмена между метрополией и колонией. Поскольку традиционные формы политической легитимации были более неуместны в контексте колониальной ситуации того времени, были созданы новые идеологические запросы, на которые в итоге ответила местная элита, которая появилась в результате социально-экономической дезинтеграции старого общества и воздействия печати на культуру. Европейское понимание истории (включая понимание золотого века ислама, за которым последовал секулярный спад в Османской империи) восприняла новая элита через книги, изданные в Европе, и книги о Европе, а также через исламскую «классику», выбранную для печати европейскими ориенталистами и вестернизированными египтянами. Этот цивилизационный дискурс, заключает Шульце, теперь стал использоваться для легитимации заявлений о равенстве и независимости.
Талал Асад - Возникновение секулярного: христианство, ислам, модерность
Серия «Studia religiosa»
М.: Новое литературное обозрение, 2020. 376 с.
ISBN 978-5-4448-1251-8
Талал Асад - Возникновение секулярного: христианство, ислам, модерность - Содержание
Благодарности
Введение: мысли о секуляризме
СЕКУЛЯРНОЕ
Глава I. Как бы могла выглядеть антропология секуляризма?
- Чтение об истоках: миф, истина и власть
- Отступление о «сакральном» и «профанном»
- Миф и священные писания
- Шаманизм: вдохновение и чувственность
- Миф\ поэзия и секулярная чувственность
- Демократический либерализм и миф
- Нечто вроде заключения: читая два современных текста о секулярном
Глава 2. Размышления об агентности и боли
- Размышление об агентности
- Размышление о боли
- Размышление об агентной боли в истории религий и этнографии
- Моральная агентность, ответственность и наказание
- Заключительный комментарий
Глава 3. Размышление о жестокости и пытках
- Две истории пыток
- Запрет пыток
- Делая мир более гуманным
- Представляя «пытку», действовать с намеренной жестокостью
- Подверженность «жестокому и унизительному обращению»
Глава 4. Права человека как средство искупления «человека»
- О естественных правах
- Суверенный индивид и суверенное государство
- Искупление человека
- «Человек» как суверенная личность
- Субъекты внутри и вне категории «человек»
Глава 5. Мусульмане как «религиозное меньшинство» в Европе
- Мусульмане и идея Европы
- Ислам и нарратив о Европе
- Подвижные границы современной Европы?
- Европейская либеральная демократия и представительство меньшинств
Глава 6. Секуляризм, национальное государство, религия
- Следует ли понимать национализм как секуляризированную религию?
- Должен ли исламизм считаться национализмом? Некоторые неразрешенные вопросы
СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ
Глава 7. Изменение концепции права и этики в Египте колониального периода
- История правовой реформы
- Почему была проведена именно эта реформа?
- Реформирование ислама через реформу права
- Моральная автономия и семейное право
- Современная «семья»
- Определение секулярного права для модерной морали
- Отступление о средневековом фикхе
- Шариат как традиционная дисциплина
Заключение
Именной указатель
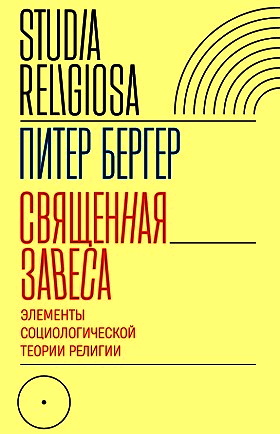 Бергер Питер - Священная завеса. Элементы социологической теории религии
Бергер Питер - Священная завеса. Элементы социологической теории религии
пер. с англ. Р. Сафронова
М.: Новое литературное обозрение, 2019. 208 с.
Серия «Studia religiosa»
ISBN 978-5-4448-0951-8
Бергер Питер - Священная завеса. Элементы социологической теории религии - Содержание
Предисловие
ЧАСТЬ I. СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
- Глава 1. Религия и конструирование мира
- Глава 2. Религия и поддержание мира
- Глава 3. Проблема теодицеи
- Глава 4. Религия и отчуждение
ЧАСТЬ II. ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
- Глава 5. Процесс секуляризации
- Глава 6. Секуляризация и проблема достоверности
- Глава 7. Секуляризация и проблема легитимации
Приложение I Социологические определения религии
Приложение II Социологическая и теологическая перспективы
Именной указатель
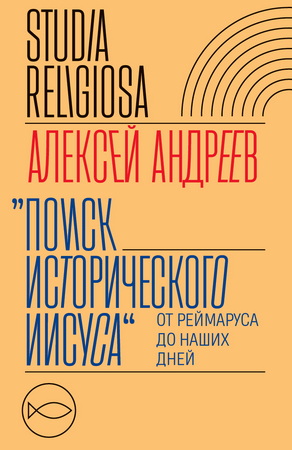 Алексей Андреев - «Поиск исторического Иисуса»: от Реймаруса до наших дней
Алексей Андреев - «Поиск исторического Иисуса»: от Реймаруса до наших дней
Серия «Studia religiosa»
М.: Новое литературное обозрение, 2022. 368 с.
ISBN 978-5-4448-1787-2
Алексей Андреев - «Поиск исторического Иисуса»: от Реймаруса до наших дней - Содержание
Благодарности
Введение
Что такое «Поиск исторического Иисуса»?
Изучение «Поиска исторического Иисуса» в России и за рубежом
Принцип отбора источников и исследовательской литературы
Структура книги
Глава 1. Постановка задачи: конец XVIII — начало XX века
- 1. Интерпретация евангельских текстов до XVIII века
- 2. Герман Самуэль Реймарус
- 3. «Рационалистическое» течение
- 4. «Либеральное» течение
- 5. Давид Фридрих Штраус
- 6. Скептическое течение
- 7. Эсхатологическое течение
- 8. Мифологическое течение
- 9. Результаты «Поиска исторического Иисуса» конца XVIII—начала XX века
Глава 2. Утрата интереса: 1910—1953 годы
- 1. Проблематика историко-критического изучения Нового Завета в работах Сёрена Кьеркегора и Мартина Келера
- 2. Карл Барт
- 3. Рудольф Бультман
- 4. «Школа критики форм» и «школа критики редакций»
- 5. Прочие участники «Поиска исторического Иисуса» первой половины XX века
- 6. Результаты периода частичного отсутствия «Поиска исторического Иисуса»
Глава 3. Новые методы и идеи: 1953-1985 годы
- 1. От старого к новому Поиску
- 2. Эрнст Кеземан
- 3. Эрнст Фухс
- 4. Гюнтер Борнкам
- 3. Чарльз Додд
- 6. Иоахим Иеремиас
- 7. Норман Перрин
- 8. Прочие участники «Поиска исторического Иисуса» третьей четверти XX века
- 9. Результаты «Поиска исторического Иисуса» в третьей четверти XX века
Глава 4. Современное состояние и перспективы на будущее
- 1. Эдвард Сандерс
- 2. Геза Вермеш
- 3. «Семинар по Иисусу»
- 4. Джон Доминик Кроссан
- 5. Маркус Борг
- 6. Джон Мейер
- 7. Барт Эрман
- 8. Бёртон Мэк и Джеральд Даунинг
- 9. Герд Тайсен и Ричард Хорсли
- 10. Николас Томас Райт
- 11. Прочие участники современного этапа «Поиска исторического Иисуса»
- 12. Результаты современного этапа «Поиска исторического Иисуса»
Заключение
Избранная библиография
Указатель имен
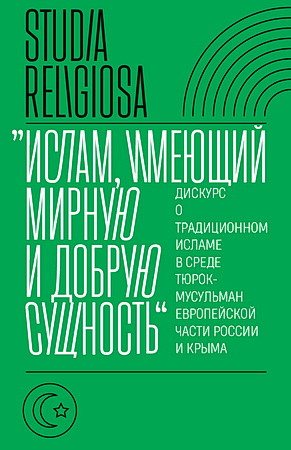 Датский исламовед Каспер Матиесен в статье «Англо-американский „традиционный ислам“ и его истолкование правоверия» отмечает, что само словосочетание «традиционный ислам» является целиком западным конструктом. Понятие «ал-ислам ал-таклиди» в качестве обозначения некой группы в исламе не даст результатов при поиске его в интернете. Понятие таклид как традиция в исламе несет комплекс совсем иных смыслов, нежели русское слово «традиция», применяемое в наши дни к исламу. Именно поэтому этот термин в исламоведческих исследованиях, как правило, не переводится. Первоначально понятие таклида как юридического термина имело значение следования необразованным мусульманином ( мукаллид) мнению авторитетного ученого (муджтахид). С течением времени таклиду стали вынуждены следовать не только необразованные массы, но и ученые – алимы, поскольку следование юридическим школам (мазхабам) в исламе стало обязательным.
Датский исламовед Каспер Матиесен в статье «Англо-американский „традиционный ислам“ и его истолкование правоверия» отмечает, что само словосочетание «традиционный ислам» является целиком западным конструктом. Понятие «ал-ислам ал-таклиди» в качестве обозначения некой группы в исламе не даст результатов при поиске его в интернете. Понятие таклид как традиция в исламе несет комплекс совсем иных смыслов, нежели русское слово «традиция», применяемое в наши дни к исламу. Именно поэтому этот термин в исламоведческих исследованиях, как правило, не переводится. Первоначально понятие таклида как юридического термина имело значение следования необразованным мусульманином ( мукаллид) мнению авторитетного ученого (муджтахид). С течением времени таклиду стали вынуждены следовать не только необразованные массы, но и ученые – алимы, поскольку следование юридическим школам (мазхабам) в исламе стало обязательным.Ислам, имеющий мирную и добрую сущность
Серия «Studia religiosa»
«НЛО», 2021, 158 с.
ISBN 978-5-44-481624-0
Ислам, имеющий мирную и добрую сущность. Дискурс о традиционном исламе в среде тюрок-мусульман европейской части России и Крыма - Содержание
От составителя
- В поисках «традиционного ислама» в Татарстане: между национальным проектом и универсалистскими теориями
- Понятие «люди Сунны и согласия общины» («ахл ас-сунна ва-л- джама‘а») и Грозненская фетва
- Обновленческое движение в современном российском исламе
- Суфизм в Татарстане: возрождение традиции, экспорт или экспансия?
- «Традиционный ислам» в дискурсе религиозных объединений, национальных организаций и государственных структур Республики Башкортостан
- Дискурс «традиционного ислама» в постсоветском Крыму
Глоссарий
Информация об авторах
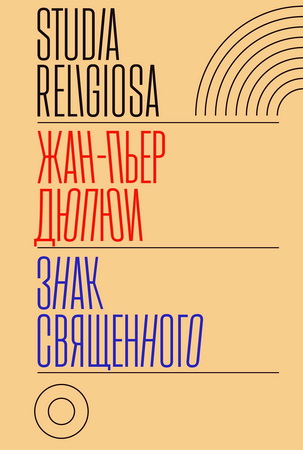 Двадцатого августа 2020 года был отравлен российский политик Алексей Навальный. Политик выжил. Немецкая газета Zeit так писала об этом в номере от 9 сентября: «То, что он все еще жив, связано с цепочкой счастливых обстоятельств». В передаче российского телеканала RTVi фраза из газеты прозвучала с изменением одного слова: Навальный спасся «благодаря цепочке счастливых случайностей – пилот оперативно посадил лайнер, а на взлетной полосе дежурила „скорая“». Четырнадцатого сентября эту цитату на том же телеканале прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров: «…вот это абсолютно безупречное поведение и пилота, и врачей, и „скорой помощи“ подается как счастливое случайное стечение обстоятельств. То есть нам даже отказывают в том, что мы люди, понимаете?»
Двадцатого августа 2020 года был отравлен российский политик Алексей Навальный. Политик выжил. Немецкая газета Zeit так писала об этом в номере от 9 сентября: «То, что он все еще жив, связано с цепочкой счастливых обстоятельств». В передаче российского телеканала RTVi фраза из газеты прозвучала с изменением одного слова: Навальный спасся «благодаря цепочке счастливых случайностей – пилот оперативно посадил лайнер, а на взлетной полосе дежурила „скорая“». Четырнадцатого сентября эту цитату на том же телеканале прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров: «…вот это абсолютно безупречное поведение и пилота, и врачей, и „скорой помощи“ подается как счастливое случайное стечение обстоятельств. То есть нам даже отказывают в том, что мы люди, понимаете?»Жан-Пьер Дюпюи - Знак священного
«НЛО», 2021 г.
Серия «Studia religiosa»
ISBN 978-5-4448-1463-5
Жан-Пьер Дюпюи - Знак священного - Содержание
Предисловие
Введение. Форма священного
- Глава 1
- Глава 2
- Глава 3
- Глава 4
- Глава 5
- Глава 6
- Глава 7
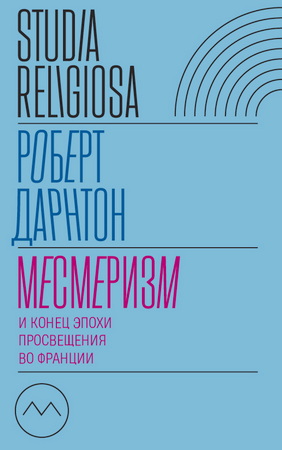 Цель данной книги куда масштабней ее скромных размеров: в ней я предпринимаю попытку исследования умонастроений и систем мировосприятия, господствовавших в образованной среде французского общества непосредственно перед тем, как Великая французская революция вытеснила их на периферию общественного внимания. Столь самонадеянный замысел, без сомнения, обречен на неудачу, ибо никому не дано проникнуть в умы людей, ушедших из жизни вот уже почти двести лет тому назад. И все же попытка приблизиться к пониманию этого способа мышления может в какой-то степени окупиться, если мы обратимся к выпавшим из поля исследовательского внимания ключам и подсказкам, оставленным нам самой эпохой на страницах тогдашних научных журналов и брошюр, в карикатурах на злобу дня, в отрывках популярных уличных песенок, равно как и в «письмах к издателям», платных анонсах готовящихся изданий, которые раскладывали на столах в гостиных и кафе того времени, и, конечно, в сохранившихся в архивных фондах рукописей частных письмах, дневниках, полицейских рапортах и отчетах о заседаниях всевозможных клубов и обществ.
Цель данной книги куда масштабней ее скромных размеров: в ней я предпринимаю попытку исследования умонастроений и систем мировосприятия, господствовавших в образованной среде французского общества непосредственно перед тем, как Великая французская революция вытеснила их на периферию общественного внимания. Столь самонадеянный замысел, без сомнения, обречен на неудачу, ибо никому не дано проникнуть в умы людей, ушедших из жизни вот уже почти двести лет тому назад. И все же попытка приблизиться к пониманию этого способа мышления может в какой-то степени окупиться, если мы обратимся к выпавшим из поля исследовательского внимания ключам и подсказкам, оставленным нам самой эпохой на страницах тогдашних научных журналов и брошюр, в карикатурах на злобу дня, в отрывках популярных уличных песенок, равно как и в «письмах к издателям», платных анонсах готовящихся изданий, которые раскладывали на столах в гостиных и кафе того времени, и, конечно, в сохранившихся в архивных фондах рукописей частных письмах, дневниках, полицейских рапортах и отчетах о заседаниях всевозможных клубов и обществ.Дарнтон Роберт - Месмеризм и конец эпохи Просвещения во Франции
«НЛО», 2021
Серия "Studia religiosa"
ISBN 978-5-44-481450-5
Дарнтон Роберт - Месмеризм и конец эпохи Просвещения во Франции - Содержание
Предисловие
- Глава 1 - Глава 5
Заключение
Библиографическое примечание
- Приложение 1 - Приложение 7
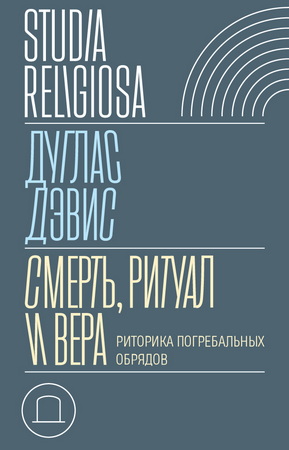 Дэвис Дуглас - Смерть, ритуал и вера: риторика погребальных обрядов
Дэвис Дуглас - Смерть, ритуал и вера: риторика погребальных обрядов
пер. с англ. К. Колкуновой
М.: Новое литературное обозрение, 2022. 480 с.
Серия «Studia religiosa»
ISBN 978-5-4448-1773-5
Дэвис Дуглас - Смерть, ритуал и вера: риторика погребальных обрядов - Содержание
Благодарности
Предисловие
- Глава 1. Интерпретация обрядов смерти
- Глава 2. Обращение с мертвецами: нечистота, фертильность и страх
- Глава 3. Теории горя
- Глава 4. Насилие, жертва и завоевание
- Глава 5. Судьба и смерть на Востоке
- Глава 6. Предки, кладбища и локальная идентичность
- Глава 7. Судьбы иудеев и мусульман
- Глава 8. Христианство и смерть Иисуса
- Глава 9. Околосмертные переживания, символическая смерть и перерождение
- Глава 10. Места, где умирают
- Глава 11. Души и присутствие умерших
- Глава 12. Смерть домашних и диких животных
- Глава 13. Роботы, книги, фильмы и здания
- Глава 14. Оскорбительная смерть, горе и религии
- Глава 15. Светские жизнь и смерть
Список использованной литературы
Указатель имен
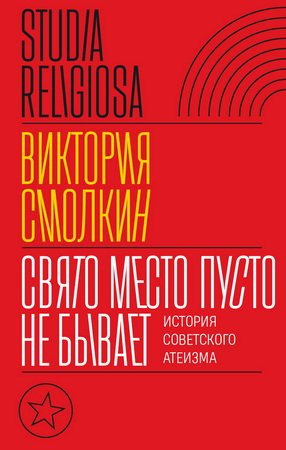 Виктория Смолкин – Свято место пусто не бывает: история советского атеизма
Виктория Смолкин – Свято место пусто не бывает: история советского атеизма
Серия «Studia religiosa»
Редактор серии С. Елагин
Москва, «Новое литературное обозрение», 2021 г.
ISBN 978-5-4448-1438-3
Виктория Смолкин – Свято место пусто не бывает: история советского атеизма – Содержание
Благодарности
Предисловие к русскому изданию
Введение
- Глава 1. Религиозный фронт: воинствующий атеизм при Ленине и Сталине
- Глава 2. Призрак бродит в царстве коммунизма: антирелигиозные кампании при Хрущеве
- Глава 3. Космическое просвещение: советский атеизм как наука 9 мая 1963 г. общество «Знание» провело конференци
- Глава 4. Путь в душу советского человека: мировоззренческое содержание советского атеизма
- Глава 5. «Нужно изучить, где потеряли человека»: советский атеизм как общественная наука (в 1959 г. был открыт первый Дворец бракосочетаний
- Глава 6. Коммунистическая партия между государством и церковью: советский атеизм и социалистические обряды
- Глава 7. Социалистический образ жизни: советский атеизм и духовная культура
Заключение
Список используемых аббревиатур и сокращений
Библиография
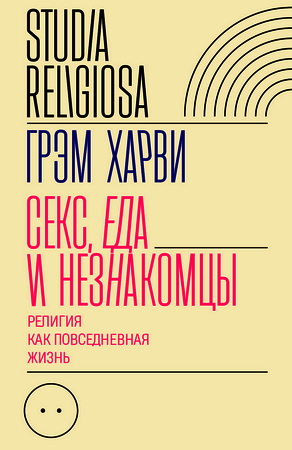 Грэм Харви - Секс, еда и незнакомцы - Религия как повседневная жизнь
Грэм Харви - Секс, еда и незнакомцы - Религия как повседневная жизнь
Серия «Studia religiosa»
пер. с англ. К. Колкуновой, науч. ред. А. Рахманин
М., Издательство Новое литературное обозрение, 2020. 368 с.
ISBN 978-54448-1175-7
Грэм Харви - Секс, еда и незнакомцы - Религия как повседневная жизнь – Содержание
Предисловие
- Глава 1. О боге и козах
- Глава 2. Практика религии где-то там
- Глава 3. Христианство — не религия
- Глава 4. Говорить по-пиратски
- Глава 5. Реальный мир
- Глава 6. Безнаказанное насилие
- Глава 7. В отношении отношений
- Глава 8. Вещи полны смысла
- Глава 9. Чистота и паломничества
- Глава 10. Заколдовывание и возвращение в пространство
- Глава 11. Христиане практикуют религию так же, как и все остальные
- Глава 12. Религия — этикет реального мира
Список литературы
Именной указатель
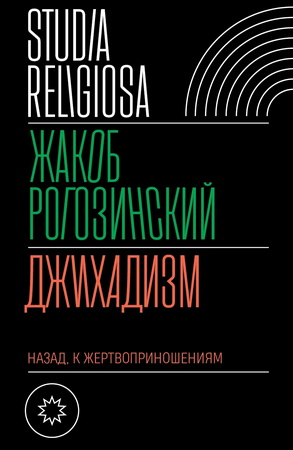 Жакоб Рогозинский - Джихадизм. Назад, к жертвоприношениям
Жакоб Рогозинский - Джихадизм. Назад, к жертвоприношениям
Серия «Studia religiosa»
Новое литературное обозрение, 2021. 184 с.
ISBN: 978-5-4448-1573-1
Жакоб Рогозинский - Джихадизм. Назад, к жертвоприношениям - Содержание
Введение. Наш враг - кто он?
- Глава 1. Об эффективных и холодных машинах для убийств
- Глава 2. От гнева к ненависти
- Глава 3. Плебей и пролетарий
- Глава 4. Тиран и пророк
- Глава 5. Проклятие Омара
- Глава 6. Мессия и апокалипсис
- Глава 7. Комплекс Измаила
- Глава 8. Назад, к жертвоприношениям
Заключение. Преодолеть ненависть
- Избранная библиография
- Именной указатель
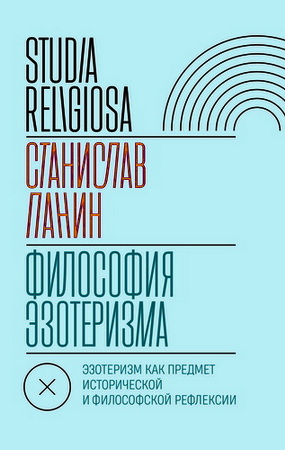 Станислав Панин - Философия эзотеризма: Эзотеризм как предмет исторической и философской рефлексии
Станислав Панин - Философия эзотеризма: Эзотеризм как предмет исторической и философской рефлексии
Серия «Studia religiosa»
Москва: Новое литературное обозрение, 2019 г. 208 с.
ISBN 978-5-4448-0967-9
Станислав Панин - Философия эзотеризма: Эзотеризм как предмет исторической и философской рефлексии – Содержание
Введение
Глава 1. Эзотеризм и его место в западной культуре
- 1. 1. Пролегомены к определению эзотеризма
- 1. 2. Эзотеризм и другие формы мировоззрения
- 1. 3. Мировоззрение и наука
Глава 2. Аналитическое исследование сфер эзотеризма, религии и науки
- 2. 1. Три сферы западной культуры
- 2. 2. Анализ сферы научного и ее связи с эзотерическим
- 2. 3. Анализ сферы религиозного и ее связи с эзотерическим
- 2. 4. Эзотеризм как центральная сфера культуры
Глава 3. Историческое исследование основных сфер западной культуры
- 3. 1. Миф и его трансформация в средневековой культуре
- 3. 2. Эпоха Просвещения и рождение идеологии сциентизма
Глава 4. Осмысление эзотерических учений в философии XIX-XX веков
- 4. 1. Немецкая философия XIX века
- 4. 2. Американская философия XIX—начала XX века
- 4. 3. Европейская философия первой половины XX века
Заключение
Библиография
Указатель имен
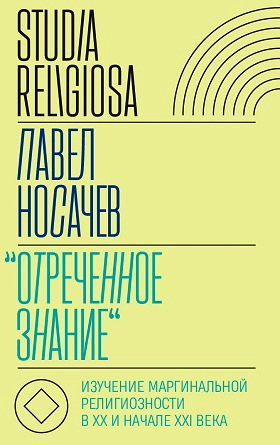 Павел Носачев - Отреченное знание - Изучение маргинальной религиозности в XX и начале XXI века - Историко-аналитическое исследование
Павел Носачев - Отреченное знание - Изучение маргинальной религиозности в XX и начале XXI века - Историко-аналитическое исследование
М.: Новое литературное обозрение, 2023. 504 с.: ил.
Серия «Studia гeligiosa»
ISBN 978-5-4448-1901-2
также первое издание книги:
Москва: Издательство Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2015 г. 336 с.
ISBN 978-5-7429-0967-5
Павел Носачев - Отреченное знание - Содержание издания 2022 г.
Предисловие ко второму изданию
Введение
Вопрос о терминах
«Как можно верить во все это — это же полная чушь! »
Подход? Метод?
Вопрос о биографиях
Чем обусловлен выбор героев книги?
Вопрос о методе и несколько формальных замечаний
ЧАСТЬ 1. МИСТОЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД
- Глава 1. Мистоцентризм и религионизм
- Глава 2. Время Эранос
- Глава 3. Мистоцентрический подход: общие черты
- Глава 4. Религиоведчески-психологический проект Карла Густава Юнга
- Глава 5. Гностицизм и каббала в творчестве Гершома Шолема
- Глава 6. Интегральный традиционализм как религиоведческий метод
- Глава 7. Мистоцентрический подход: выводы
ЧАСТЬ 2. ПОДХОД КЛАССИЧЕСКОГО РАЦИОНАЛИЗМА
- Глава 1. Истоки подхода классического рационализма
- Глава 2. Подход классического рационализма: общие черты
- Глава 3. Фрэнсис Йейтс и «герметико-каббалистическая традиция»
- Глава 4. Одержимость герметическим семиозисом
- Глава 5. Перевернутое отражение
- Глава 6. Подход классического рационализма: выводы
ЧАСТЬ 3. НОВОЕВРОПЕЙСКИЙ ПОДХОД
- Глава 1. Институциональная история новоевропейского подхода
- Глава 2. Новоевропейский подход: общие черты и ключевые концепции
- Глава 3. Западный эзотеризм как форма мысли
- Глава 4. Новая историография Воутера Ханеграаффа
- Глава 5. Коку фон Штукрад и борьба с очевидностями
- Глава 6. Переходные формы
- Глава 7. Новоевропейский подход: выводы
ЧАСТЬ 4. АМЕРИКАНСКИЙ ПОДХОД
- Глава 1. Условия формирования американского подхода
- Глава 2. Американский подход: общие черты
- Глава 3. «Западная эзотерическая традиция» как литературный феномен
- Глава 4. Безрелигиозная религия и западный эзотеризм
- Глава 5. Два образа религиоведения Й. П. Кулиану
- Глава 6. Американский подход: выводы
Список литературы
Приложение
Указатель имен
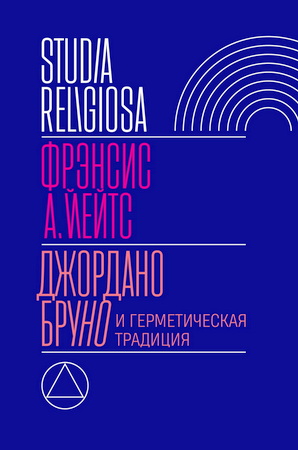 Фрэнсис Йейтс - Джордано Бруно и герметическая традиция
Фрэнсис Йейтс - Джордано Бруно и герметическая традиция
Издательство Новое литературное обозрение, 2020. 520 с.
Серия «Studia гeligiosa»
ISBN 978-5-4448-1184-9
Фрэнсис Йейтс - Джордано Бруно и герметическая традиция - Содержание
Предисловие
От переводчика
- Глава I. Гермес Трисмегист
- Глава II. «Поймандр» и «Асклепий» в восприятии Фичино
- Глава III. Гермес Трисмегист и магия
- Глава IV. Естественная магия Фичино
- Глава V. Пико делла Мирандола и кабалистическая магия
- Глава VI. Псевдо-Дионисий и теология христианского мага
- Глава VII. Корнелий Агриппа и его свод ренессансной магии
- Глава VIII. Магия и наука в эпоху Ренессанса
- Глава IX. Против магии
- Глава X. Религиозный герметизм в XVI веке
- Глава XI. Джордано Бруно: первая поездка в Париж
- Глава XII. Джордано Бруно в Англии: герметическая реформа
- Глава XIII. Джордано Бруно в Англии: герметическая философия
- Глава XIV. Джордано Бруно и кабала
- Глава XV. Джордано Бруно: героический энтузиаст и елизаветинец
- Глава XVI. Джордано Бруно: второй приезд в Париж
- Глава XVII. Джордано Бруно в Германии
- Глава XVIII. Джордано Бруно: последнее изданное произведение
- Глава XIX. Джордано Бруно: возвращение в Италию
- Глава XX. Джордано Бруно и Томмазо Кампанелла
- Глава XXI. После того как Гермес Трисмегист был датирован
- Глава XXII. Гермес Трисмегист и полемика вокруг Фладда
Список сокращений
Именной указатель
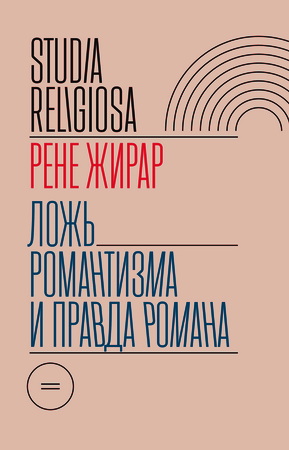 Рене Жирар - Ложь романтизма и правда романа
Рене Жирар - Ложь романтизма и правда романа
пер. с франц. А. Зыгмонта
М.. Новое литературное обозрение, 2019. 352 с.
Серия «Studia religiosa»
ISBN 978-5-4448-1103-0
Жирар Рене - Ложь романтизма и правда романа - Содержание
Сергей Зенкин. Рене Жирар: желание — мимесис — рассказ
- Глава I. «Треугольное» желание
- Глава II. Люди станут богами одни для других
- Глава III. Метаморфозы желания
- Глава IV. Раб и господин
- Глава V Красное и Черное
- Глава VI. Проблемы техники у Стендаля, Сервантеса и Флобера
- Глава VII. Аскеза героя
- Глава VIII. Мазохизм и садизм
- Глава IX. Миры Пруста
- Глава X. Проблемы техники у Пруста и Достоевского
- Глава XI. Апокалипсис Достоевского
- Глава XII. Концовка
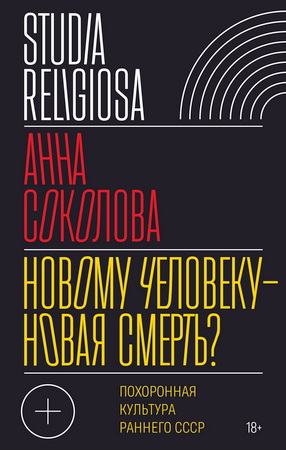 Анна Соколова - Новому человеку – новая смерть - Похоронная культура раннего СССР
Анна Соколова - Новому человеку – новая смерть - Похоронная культура раннего СССР
Серия «Studia гeligiosa»
«НЛО», 2022, 260с.
ISBN 978-5-44-481664-6
Анна Соколова - Новому человеку – новая смерть - Похоронная культура раннего СССР - Содержание
Предисловие
Введение
- Десемантизация смерти: «Остается туша гниющего мяса. Какое к ней может быть разумное отношение?»
- Рядовая смерть: советский проект и повседневные практики обращения с мертвыми телами
- Похоронная реформа 1918 года
- Похоронные реформы в Европе в XVIII–XIX веках
- Нормативное регулирование и похоронные реформы в Российской империи
- Последствия похоронных реформ и советский микрокосм
Глава 1
- Революционное движение и практика публичных похорон
- Гражданские похороны и возможность отказа от церковных обрядов
- Похороны жертв революции на Марсовом поле
- «Жизнь без обряда – как квас без изюминки» – какой должна быть новая гражданская обрядность?
- Что собой представляли «красные» похороны?
- Быть большевиком – при жизни и после смерти
Глава 2
- Новый рациональный советский город
- Кладбища в старых городах
- Кладбища как общественные пространства советских городов
- Кремация как мортальная практика для города будущего
Глава 3
- Европейская дискуссия о кремации XIX века
- Биологизация и десакрализация смерти и мертвого тела
- Опыт катастрофы
- Эмансипация похорон от Церкви: европейский контекст
- «Комиссия предполагала предпочтительным постройку Крематориума-Храма»
- Первый советский крематорий
- Общественное мнение и кремация
- Головокружение от успехов
Глава 4
- Муниципализация похоронного дела и похоронный кризис 1919 года
- Антирелигиозная кампания и похоронная инфраструктура
- Новое администрирование и похоронный кризис
- Классовый принцип оплаты погребения и реконструкция похоронного дела
Глава 5
- «Трагедия с буффонадой»: деволюция советской похоронной реформы и переход к низовому регулированию и DIY-практикам
- День и ночь кремации
- Огонь, политические трупы и воспроизводство чистоты
- Бессмысленность обычных похорон как норма: две утопии советской смерти
- Дача из гробов: от попыток реформ к осмыслению катастрофы
- Эпилог: советские похороны в поисках смысла
Приложение
1918 год - 1937 год
Источники. Архивные материалы
Библиография
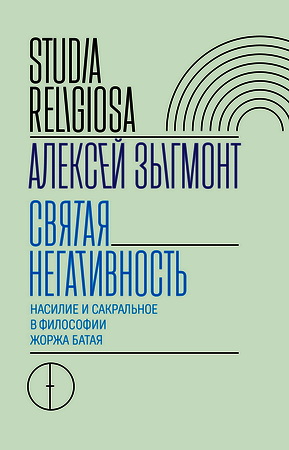 Алексей Зыгмонт - Святая негативность - Насилие и сакральное в философии Жоржа Батая
Алексей Зыгмонт - Святая негативность - Насилие и сакральное в философии Жоржа Батая
Издательство Новое литературное обозрение, 2018. 320 с.
Серия «Studia гeligiosa»
ISBN 978-54448-0923-5
Алексей Зыгмонт - Святая негативность - Насилие и сакральное в философии Жоржа Батая – Содержание
Введение. Безграничный жертвенник
Спятивший Гегель
О слове и методе
I. Слепящее солнце насилия
- Мир, состоящий из молний и зари
- Икар и Ван Гог: мифология и теория жертвоприношения
- Солнце как фигура познания
II. Первые опыты теории
- В стране кошмаров и больших пальцев ног
- Переходные концепты: агрессия, крик, эксцесс
- Божества скотобоен
- Гетерогенное и модели инакового
III. Обезглавленное сообщество
- Между корридой и революцией
- «Безголового принимаю в насилии...»
- Куда делась голова Ацефала?
- Теория насилия и сакрального в Коллеже социологии
IV. Мечта о сакральном насилии
- «Всеобщая экономика»: насилие траты и трата насилия
- «Теория религии»: от грехопадения к стакану вина
- «Эротизм»: заключительный синтез
- По ту сторону речи и языка
V. Сакральное против войны
- Накануне: от рефлексии к экстазам
- 1939-1945: война войну изгоняет
- Всего лишь тупик и зверство
- Заключение. Радость и смерть неразлучны
Библиография
Именной указатель
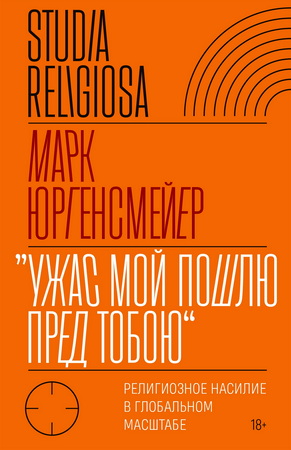 Марк Юргенсмейер - Ужас Мой пошлю пред тобою: религиозное насилие в глобальном масштабе
Марк Юргенсмейер - Ужас Мой пошлю пред тобою: религиозное насилие в глобальном масштабе
М.: Новое литературное обозрение, 2022. 496 с.: ил.
Серия «Studia religiosa»
ISBN 978-5-4448-1734-6
Марк Юргенсмейер - Ужас Мой пошлю пред тобою: религиозное насилие в глобальном масштабе - Содержание
Предисловие к русскому изданию
Предисловие и благодарности
- 1. Введение. Террор и Господь Бог
- 2. Христово воинство
- 3. Поруганный Сион
- 4. «Забытый долг» мусульман
- 5. Трезубец Шивы и меч сикхизма
- 6. Обличья террора в буддизме
- 7. Театр террора
- 8. Космическая война
- 9. Мученики и демоны
- 10. Воинская мощь
- 11. Чего хочет Бог
Список интервью и корреспонденции
Избранная библиография
Указатель имен
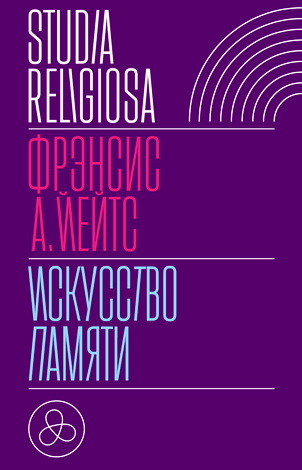 Предмет этого исследования незнаком большинству читателей. Лишь немногие знают, что греки, изобретатели всевозможных искусств, изобрели также и искусство памяти, которое, подобно другим, перешло к Риму и затем в европейскую традицию. Это искусство использовало технику запечатления в памяти неких «мест» и «образов». Обычно оно квалифицировалось как «мнемотехника» и в новые времена представлялось скорее весьма незначительной областью человеческой деятельности. Однако до изобретения книгопечатания хорошо развитая память имела жизненно важное значение, и манипуляции с памятными образами должны были так или иначе захватывать всю душу целиком.
Предмет этого исследования незнаком большинству читателей. Лишь немногие знают, что греки, изобретатели всевозможных искусств, изобрели также и искусство памяти, которое, подобно другим, перешло к Риму и затем в европейскую традицию. Это искусство использовало технику запечатления в памяти неких «мест» и «образов». Обычно оно квалифицировалось как «мнемотехника» и в новые времена представлялось скорее весьма незначительной областью человеческой деятельности. Однако до изобретения книгопечатания хорошо развитая память имела жизненно важное значение, и манипуляции с памятными образами должны были так или иначе захватывать всю душу целиком.
Кроме того, искусство, использующее современную ему архитектуру для подыскания памятных мест и современные образные средства для формирования образов, должно, подобно другим искусствам, иметь свой классический период, готику и Ренессанс. Мнемотехническая сторона этого искусства представлена и в античности, и в последующие времена и образует фактологическую основу для его исследования, однако такое исследование должно охватывать не только историю соответствующих технических приемов. Мнемозина, полагали греки, является матерью муз; история освоения этой самой фундаментальной и трудноуловимой человеческой способности погружает нас в гораздо более глубокие воды.
Фрэнсис Йейтс - Искусство памяти
«НЛО», 2023 г
Серия "Studia religiosa"
ISBN 978-5-44-482174-0
Фрэнсис Йейтс - Искусство памяти - Содержание
- Предисловие
- Глава I Три латинских источника классического искусства памяти 1
- Глава II Искусство памяти в Греции: память и душа
- Глава III Искусство памяти в средние века
- Глава IV Средневековая память и формирование образности
- Глава V Трактаты о памяти
- Глава VI Ренессансная память 275 : Театр Памяти Джулио Камилло
- Глава VII Театр Камилло и венецианский Ренессанс
- Глава VIII Луллизм как искусство памяти
- Глава IX Джордано Бруно: секрет «Теней»
- Глава X Рамизм как искусство памяти
- Глава XI Джордано Бруно: секрет «Печатей»
- Глава XII Конфликт памяти Бруно с памятью рамистов
- Глава XIII Джордано Бруно: последние труды о памяти
- Глава XIV Искусство памяти и итальянские диалоги Бруно
- Глава XV Театральная система памяти Роберта Фладда
- Глава XVI Театр Памяти Фладда и театр «Глобус»
- Глава XVII Искусство памяти и рост научного метода
Иллюстрации
Приложение Театр Памяти Джулио Камилло
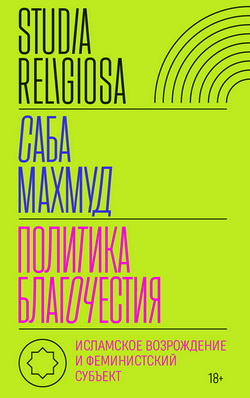
Махмуд Саба - Политика благочестия. Исламское возрождение и феминистский субъект
«НЛО», 2023
Серия "Studia religiosa"
ISBN 978-5-4448-2306-8
Махмуд Саба - Политика благочестия. Исламское возрождение и феминистский субъект - Содержание
Предисловие к изданию 2012 года
- Агентность, политика, герменевтика
- Этика, политика и критика
- Религия и религиозная субъективность
- Революция в Египте и политика благочестия
Предисловие
Благодарности
Глава 1
- Агентность и сопротивление
- Постструктуралистская феминистская теория и агентность
- Манифестация норм и формирование этики
- Этика и политика
Глава 2
- Цели движения при мечетях
- Движение при мечетях в историческом контексте
- Женщины и da‘wa
- Модели социальности
Глава 3
- Призывы в текстах
- Практики цитирования
- Сексуальная трансгрессия и женский взгляд
- Женская сексуальность и социальные разногласия
- Модерность традиционных практик
Глава 4
- Добродетель и молитва
- Ритуальный перформанс как цель и средство
- Внешнее как средство для внутреннего
- Страх, блаженство и моральное действие
- Политика и конвенции
Глава 5
- Этическое формирование
- Терпеть – значит узаконивать?
- Парадоксы благочестия
Эпилог
Политика в необычных местах
Феминистская политика и этические дилеммы
Библиография
Глоссарий
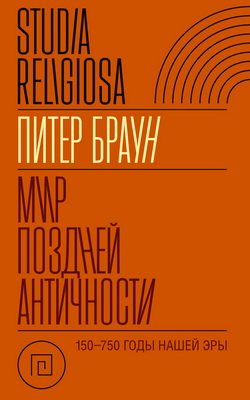
Питер Браун - Мир поздней Античности: 150—750 гг. н. э.
М.: Новое литературное обозрение, 2024
Серия «Studia religiosa»
ISBN 978-5-4448-2330-3
Питер Браун - Мир поздней Античности: 150—750 гг. н. э. - Содержание
Предисловие
Часть первая: позднеримская революция
-
I. Общество
- 1. Границы классического мира: ок. 200 года н. э.
- 2. Новые правители: 240–350 годы
- 3. Восстановленный мир: римское общество в IV веке
-
II. Религия
- 4. Новое настроение: направления религиозной мысли, ок. 170–300 годов
- 5. Кризис городов: возвышение христианства, ок. 200–300 годов
- 6. Последние эллины: философия и язычество, ок. 260–360 годов
- 7. Обращение христианства, 300–363 годы
- 8. Новый народ: монашество и распространение христианства, 300–400 годы
Часть вторая: раздел наследства
-
I. Запад
- 9. Западное возрождение, 350–450 годы
- 10. Цена выживания: западное общество, 450–650 годы
-
II. Византия
- 11. «Царствующий град»: Восточная империя от Феодосия II до Анастасия, 408–518 годы
- 12. Слава: Юстиниан и его преемники, 527–603 годы
- 13. Империи Востока: Византия и Персия, 540–640 годы
- 14. Смерть классического мира: культура и религия в раннее Средневековье
-
III. Новые участники
- 15. Мухаммед и возникновение ислама, 610–632 годы
- 16. «Сад под защитой наших копий»: позднеантичный мир под властью ислама, 632–809 годы
Библиография
От переводчиков
Хронология
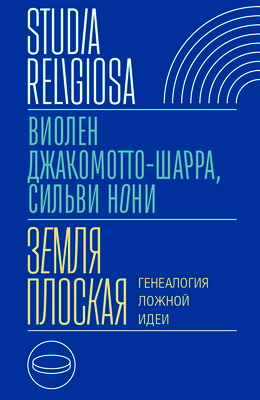 В средние века люди верили, что Земля плоская. Эта мысль сегодня настолько популярна, что сама формулировка стала символом научной отсталости, которую непонятно почему все еще приписывают средневековью и пресловутой ограниченности старого мира, якобы нами преодоленной. Она звучит из уст самых разных журналистов и интеллектуалов, студентов и, что хуже всего, многих преподавателей, которые, по незнанию или оттого, что так удобнее, продолжают распространять теорию, давно признанную всеми специалистами по истории науки и истории мысли выдумкой, предназначенной, вероятно, чтобы утвердить триумф Нового времени.
В средние века люди верили, что Земля плоская. Эта мысль сегодня настолько популярна, что сама формулировка стала символом научной отсталости, которую непонятно почему все еще приписывают средневековью и пресловутой ограниченности старого мира, якобы нами преодоленной. Она звучит из уст самых разных журналистов и интеллектуалов, студентов и, что хуже всего, многих преподавателей, которые, по незнанию или оттого, что так удобнее, продолжают распространять теорию, давно признанную всеми специалистами по истории науки и истории мысли выдумкой, предназначенной, вероятно, чтобы утвердить триумф Нового времени.
В самом деле, уже не одно десятилетие прошло с тех пор, как исследователи доказали всю маргинальность учений о плоской Земле. Самая известная и наиболее полная книга, посвященная этому мифу, принадлежит историку Дж. Б. Расселу: она называется Inventing the Flat Earth, Colombus and Modern Historians («Изобретение плоской Земли: Колумб и современные историки») и вышла в канун пятисотлетия «открытия» Америки. Не так давно большой коллективный труд подвел черту под обобщением средневековых знаний о Земле: в этой публикации представлено множество документов и прослеживается нескрываемое удивление авторов, вызванное стойкостью этого ничем не подкрепленного мифа.
Виолен Джакомотто-Шарра, Сильви Нони - Земля плоская. Генеалогия ложной идеи
А. Захаревич, перевод с французского
OOO «Новое литературное обозрение», 2023
ISBN 978-5-4448-2354-3
Виолен Джакомотто-Шарра, Сильви Нони - Земля плоская. Генеалогия ложной идеи - Содержание
Введение
ЧАСТЬ I Как создавалось и распространялось учение о сфере
- Глава I Становление античных теорий
- Глава II Распространение знаний в Средиземноморье
- Глава III Сфера на Западе: от раннего средневековья до конца Возрождения
ЧАСТЬ II История мифа: зачем он был нужен
- Глава I Изобретение плоской Земли
- Глава II Миф в мифе
- Глава III Понять успех мифа
- Глава IV Как поддерживался миф в XIX–XX веках. Краткий обзор
Вместо заключения
Приложение Метод Эратосфена в изложении Клеомеда
Библиография
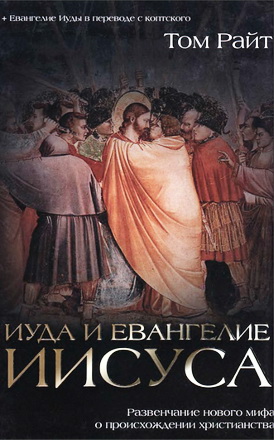
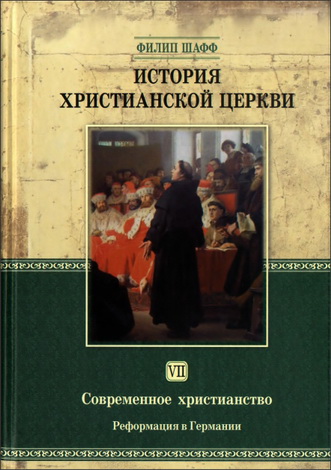

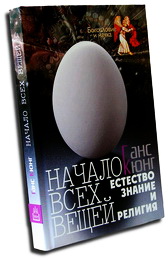
Комментарии (4 комментария)
Как она?
Она - супер!..
Отличная страница, но уже переполнена, надо новыми книгами серии открывать нашу новую страницу уже...
Ещё одна хорошая серия.