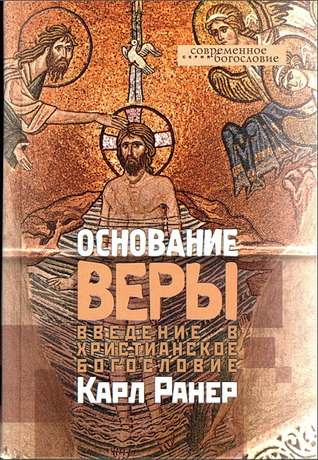
Бибихин - Чтение философии
Слово о сущем
В курсе «Чтение философии» мы так или иначе имеем дело с отцами. Почитаемые авторы всегда ощущались как отцы; за учителями Церкви это именование закреплено официально. Я ввожу сейчас эту тему особенно потому, что в предстоящем семестре мы собираемся заглянуть в ранний европейский мир, совсем ранний, очень внимательный и очень разборчивый греческий мир, на протяжении двухсот или двухсот пятидесяти лет думающий, пишущий, говорящий так, что потом на его слове, на там открывшейся истине строится все знание, здание и задание Европы, к которой мы чудом — продолжается «европейское чудо» — сейчас принадлежим, потому что еще можем держаться на ногах, смотреть, думать, говорить и спрашивать и слушать друг друга, удивляясь тому что открытость не закрыта и мир, давно пошатнувшийся и скользящий, опасный, чреватый, не окончился.
Сразу видно что отцы могут быть моложе нас. Возьму близкий пример. По возрасту я отец нынешним молодым людям; меня можно привлечь к ответственности за то, что теперь можно видеть, среди чего мы живем; ведь можно посмотреть, что я писал, как поступал, что делал. В этом смысле я прежний, молодой, как ни странно кажется сказать, по отношению к самому себе теперешнему оказываюсь как бы отцом; я теперешний мною прежним подготовлен, порожден, подведен к тому что я есть или к тому что мне мешает быть; он, т. е. я же сам, отец себе, который сделал — в той мере, в какой сделал — так, что теперь все сложилось как сложилось.
Владимир Вениаминович Бибихин - Чтение философии
(Серия «Слово о сущем»)
Санкт-Петербург: Наука, 2009 г. — 536 с.
ISBN 978-5-02-026339-0
Владимир Вениаминович Бибихин - Чтение философии - Содержание
Чтение философии
Вопросы к зачету
Приложение
- Возвращение отцов
- По поводу «Чтения „Теэтета"»
Владимир Вениаминович Бибихин - Чтение философии - Философское чтение I—1 (первый вариант) ИФ, 30.7.1991 Университет, 3.9.1991
Чтение философского текста — условное название предлагаемой темы, вместо которого надо будет, так или иначе — по причинам, которые вроде бы сразу ясны, я сейчас скажу, произнесу, — иметь потом другое, но вот другого пока нет, может быть, подскажете; и обещать себе, что мы на самом деле хорошие, что мы лучше, чем это шаткое беспомощное название, «чтение философского текста», обещать себе хочется, многое, но мы и без того уже много слишком сами себе обещаем, что у нас будет то, будет это, ситуация подозрительная: сейчас мы никуда не годимся, но на самом деле... но в будущем... Чем так себе обещать, лучше присмотреться, где мы по-настоящему оказались. Что это за название, что за тема; откуда она взялась, что она означает. Честно, взялась она, скорее всего, от растерянности. Растерянность одна не ходит, в ней много всего другого, например, зависть. Растерянность, в том, что касается философского текста, наступает оттого, что философия — это очень большое богатство, которое чем больше мы к нему приглядываемся, тем оказывается больше, и мы теряемся от незнания, за что взяться, от явного неумения все охватить.
Тогда появляется отчаянное желание подыскать один ключик, все охватить одним приемом. И это опять подозрительно. Самая первая реакция при потерянности — вот этот жест хватания, самый он же почему-то (я даже не обязан разбираться, почему, я только знаю, что это так) «естественный», первый попадающийся. И схватить хочется за то, что можно ухватить, а в философии, кажется, всего проще ухватить текст, такое-то количество слов, потому что он занимает 32 или 480 (говорю эти цифры не знаю почему, может быть 32 это статья, 480 большая книга, или это мои представления о том, какой должна быть длина текста статьи философской и книги философской, довольно большими я их себе представляю, меньше мне кажется, наверное, несолидно), — текст состоит из такого-то количества слов, эти слова стоят прямо можно сказать в железном порядке, они ни в коем случае не должны быть передвинуты, и вот ведь интересно почему (т. е. почему как они стояли сто или тысячу лет назад, так и будут долго, если повезет и вообще будут, стоять).
Вот почему мы храним текст таким неизменным. Т. е. между прочим еще и почему. Потому что — все это отступление от темы, но, может быть, нужное, — всякий появившийся как событие текст подхватывается (опять почему-то хватание), его схватывают, в разной мере, с разной глубиной, он начинает жить в разговорах, спорах, опровержениях, в других текстах, он взрывается, разрастается, размножается в целую литературу, как ницшеанская литература (надо еще посмотреть, сколько вторичного, отраженного ницшеанства, может быть через Леонида Андреева, в Горьком, потом в Бухарине, конечно в сложной смеси, конечно гротескного, пародийного ницшеанства, когда то, что у Ницше было пародией, нигилизм и воля к власти, становится стержнем, вокруг которого строить, а пародируется, наоборот — как у Бухарина пародируется Есенин, — то, что для Ницше было бы самым святым, поэзия; грустно говорить об этих превращениях, самых немыслимых, которые почти всегда впадают в то, что называется «с точностью до наоборот», как в громадной платонической литературе идея была понята с точностью до наоборот, не то, что должно быть рождено мыслью, а то, что должно родить, породить собою мысль; или христианская и в том числе христианская религиозно-философская литература, вокруг слова Откровения Писания), — и вот по контрасту с этим распространением, быстрым, неостановимым, всякого события само событие закрепляется в том тексте, с которым ассоциируется, и это неверно, т. е. что мы ограничиваем; в тексте Платон, событие Платона, мысль Платона включает все те приращения, переращения, превращения, которые с ней случились и которые она в себе держала, несла с самого начала, в том числе событие Платона включает и то, что с нами происходит, когда мы читаем Платона, — утрируя можно сказать, что Платон и нас запрограммировал таких, имеющих «собственные мысли» по поводу его сочинений и выражающих эти наши собственные мысли в наших собственных сочинениях.

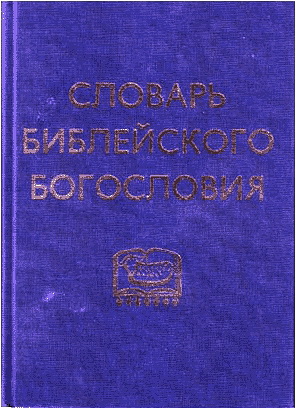
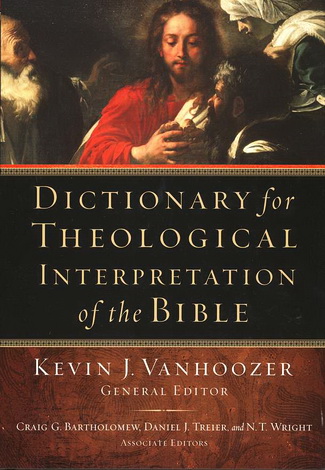


Комментарии
Пока нет комментариев. Будьте первым!