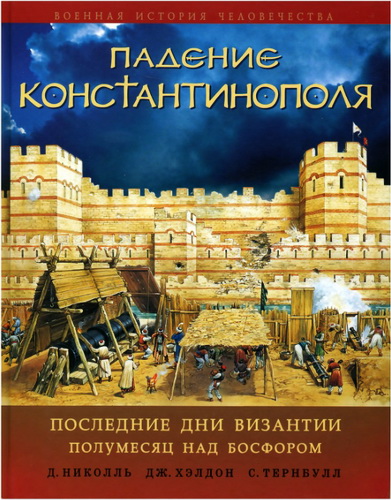
Бонецкая - Дух Серебряного века
Сочинения Ницше начали проникать в Россию, повидимому, уже в конце 1880-х годов. В «Ecce Homo» среди мировых столиц, «открывших» его, Ницше упоминает Санкт-Петербург; дочь Л. Шестова сообщает, что в самом начале 1890-х годов книги Ницше привез из Германии на родину П.Д. Боборыкин. Российская цензура поначалу запрещала распространение произведений Ницше, делая исключение для текста «Так говорил Заратустра», который, видимо, принимала за чисто художественный; книгу можно было купить в немецком книжном магазине в Москве. Об этом рассказывает в своих «Воспоминаниях» Евгения Герцык – одна из первых переводчиц Ницше. Будучи летом 1899 г. в Германии, Евгения и ее сестра приобрели там двухтомник Ницше и перевезли его через границу под одеждой. Уже до того «заболев» Ницше, по возвращении они с жаром принялись переводить – и вот, в издательстве Ефимова в переводе Евгении и Аделаиды Герцык одна за другой выходят книги Ницше: «Утренняя заря» (1901), «Помрачение кумиров» (1902), «Несвоевременные размышления» (1905)… Впрочем, все корифеи русской мысли Серебряного века читали Ницше в оригинале.
Раньше других под знак Ницше в своем творчестве встали Шестов и Мережковский. Ницшеанские мотивы прослеживаются в ряде очерков Мережковского второй половины 1890-х годов, вошедших в книгу «Вечные спутники» (об Еврипиде, Гёте, – прежде всего о Пушкине); Ницше по сути является третьим «героем» книги «Л. Толстой и Достоевский», которую Мережковский публиковал частями в журнале «Мир искусства» в 1900–1902 гг. Но первым, кто ввел Ницше в становящуюся культуру Серебряного века, был Шестов как автор двух книг: «Добро в учении гр. Толстого и Ф. Нитше» (1900) и «Достоевский и Нитше» (1902). Русский Ницше – это, прямо скажем, фантом, в котором, надо думать, автор «Антихриста» вряд ли бы признал себя. Дело в том, что, как замечал Бердяев, «тема Ницше представлялась русским темой религиозной по преимуществу»: Ницше, вопреки его настойчивому позиционированию себя в качестве атеиста, всерьез считали религиозным учителем, пророком нового христианства, святым, посвященным. Русский Ницше – коллективное создание мыслителей Серебряного века: Шестов набросал контуры этого лица, отдельные черты которого были вслед затем выписаны Мережковским, Андреем Белым, Бердяевым, Вяч. Ивановым. «Русский Ницше» – плод «русской герменевтики», – в данном случае, так сказать, герменевтики сравнительной – не просто интерпретации текстов Ницше, но и параллельного толкования этих последних и, к примеру, произведений русских классиков ХIХ в. Словно наведенные одно на другое зеркала, стоят в трактатах Шестова и Мережковского друг против друга Ницше и Толстой, Ницше и Достоевский, взаимно углубляясь и обогащаясь каждый свойствами своего vis-ầ-vis: в сочинениях позднего Ницше критикам слышатся голоса героев романов Достоевского, а эпический пафос автора «Войны и мира», возносящийся над антитезой добра и зла, одним из них сопоставляется с ницшеанской философией жизни. Русский Ницше – это не портрет, а, скорее, икона, и представленный ею лик не индивидуален, а тяготеет к универсальной человечности. Так, чтобы понять судьбы не только Достоевского, но и Кьеркегора, Паскаля, Лютера, Августина… и вплоть до библейских пророков, Шестову понадобилось вписать в их воззрения бытийственные интуиции Ницше.
Так что ж, «русский Ницше» не имеет ничего общего со своим прототипом и есть его ложный образ? тогда чем, как не конфузом, неудачей была бы вся русская ницшеана, – в частности, сравнительная, с привлечением Ницше, герменевтика Мережковского? Кажется, дело обстоит сложнее. К. Свасьян, сторонник старой русской рецепции Ницше (см. вышеприведенную бердяевскую цитату), по мнению которого даже и в «Антихристе» «не пахнет атеизмом»1, призывает (используя выражение самого Ницше) за его словами распознавать «музыку, страсть и личность»2. Именно многослойная личность мыслителя, бурная динамика его душевной жизни и были предметом русской герменевтики. Слова, скудные плоды внутренней борьбы (но при этом и свободного выбора), тем самым оказывались под подозрением: к примеру, Ницше клеймил добрых и справедливых, но и его собственная катастрофа была спровоцирована как раз присущей ему отзывчивой сострадательностью. Евгения Герцык вспоминает, что в 1900-е годы не замечала в книгах Ницше «ницшеанства», ницшевской идеологии – аморализма, жестокости, безбожия: Ницше входил в русскую душу «щемящей занозой» жалости, и при этом как вестник того, что «мир глубок» и человек на пороге нового открытия Бога. Экзистенциальная пронзительность текстов Ницше в глазах мыслителей Серебряного века была свидетельством его духовного – религиозного опыта; в психологически виртуозных суждениях находили пророческие истины. Ориентация на «музыку» и «страсть» расковывала герменевтический произвол – вплоть до обнаружения в сочинениях Ницше сокровенных евангельских смыслов. Русская рецепция Ницше порождала невероятный соблазн – Ницше христианизировался, соответственно Евангелия ницшезировались… В конкретной герменевтической практике воззрение Ницше распадалось на «мотивы» – «смерти Бога», «сверхчеловека», «по ту сторону добра и зла», «вечного возвращения», «Диониса», ставшего эвфемизмом для той антропологической реальности, которую Фрейд обозначит как бессознательное… При этом «по умолчанию» стали предполагать, что в целом речь идет об откровении апокалипсического христианства, пророком которого был Ницше. И если к сфере герменевтики вообще приложимы понятия правды, истины – и лжи, ошибки, то русское ницшеанство, чтение классических текстов через «призму» Ницше, являет собой пеструю смесь удач и просчетов, попаданий в десятку – и самых жутких смысловых аберраций. Ряд таких «сюжетов» мы обсудим в связи с герменевтикой Мережковского. Но проблема самого Ницше остается на сегодняшний день открытой. Он угадал многое, связанное с утратой христианского пути к Богу. Но чаемое им отпадение человечества от христианства не породило – вопреки его ожиданиям – великой культуры. И вряд ли Ницше, которого шокировала уже атмосфера вагнеровского Байрейта, смог бы просто дышать в современном культурном воздухе…
Бонецкая Н. К. - Дух Серебряного века - К феноменологии эпохи
СПб.: Алетейя, 2022. – 722 с.
ISBN 978-5-00165-411-7
Бонецкая Н. К. - Дух Серебряного века – Содержание
От автора
Раздел 1. Ф. Ницше и русская мысль Серебряного века
Русский Ницше и пути постницшевского христианства
Боги Греции в России
Славянский Дионис
Аполлон Мышиный
Эстетика М. Волошина
Сон и сновидения
Взыскующие сатори
Андрогин против сверхчеловека (Вл. Соловьёв и Ф. Ницше)
Соловьёв поправляет Платона
Догматика и теософия
«Андрогин» в системе антроподицеи
Анимус и Анима
Л. Шестов и Ф. Ницше
Образ Ницше у Шестова
Шестов по ту сторону добра и зла
«Шестовизация» и ее смысл
Авраам и Моисей
«Библейский» ли «человек» – Шестов?
Ницшеанские мотивы у Шестова
Апофеоз творчества (Н. Бердяев и Ф. Ницше)
«Смерть Бога» Ницше и миф Бердяева
«Кто первенец, тот приносится всегда в жертву…»
«Антроподицея» Бердяева и «сверхчеловек» Ницше
Творчество как власть над миром
Ницше – Фрейд – Бердяев
Homo faber и homo liturgus (Философская антропология П. Флоренского)
Человек «в порядке природы» и «в порядке свободы»
Философия тела
«Человек биологический» и «создатель орудий»
«Человек трагический» и «человек литургический»
Раздел 2. Религия Серебряного века
Философская Церковь супругов Мережковских
О протофеноменах Серебряного века
«Наша Церковь» Мережковских как протофеномен эпохи
«Идеальный брак»
«Влюбленность»
«Наша Церковь»: культ и история
«Башня» на Таврической улице
Проблема идентичности «Башни»
У истоков «башенного» проекта
«Дионисическая мистерия» в Петербурге
Западно -восточный симпосион (1906 год)
«Две жены в одеждах темных…»
«Сестра»
Русская софиология и антропософия
Христианка или язычница?
Заратустра и калека-горбун
«Моя детская философия явления…»
«…Ты по Мне гряди…»
Прот и Гиацинт
В преддверии катастрофы
«…Самое молодое и творческое время…»
Раздел 3. Русская герменевтика У истоков русской герменевтики
Литературная критика и герменевтика
Предтечи русской герменевтики
Д.С. Мережковский: герменевтика и экзегетика
Кто он – Мережковский?
Герменевтика и революция
Литература и религиозная философия
Герменевтика западная и герменевтика русская
Герменевтика и мифотворчество
Герменевтика Льва Шестова
Адвокат дьявола
Философия Шестова как герменевтика
Герменевтика Шестова как судебный процесс
Шестов о Шекспире: «оправдание жизни» как оправдание зла
Странник и его цель
Очарованный странник
Писатели и философы
«Немецкий антихрист» и «русский христианин»
«Братья-близнецы»
Автор и его герои
Лев Шестов как богослов
Теология «великой и последней борьбы»
Бог и человек
Теология Абсурда
Раздел 4. Философия имени в России
Борьба за Логос в России в ХХ веке
Филологическая школа Павла Флоренского
«Философы»
Учитель и ученик
Тайна Флоренского
Кто такой Вагнер?
Вопрос о новом догмате
Падение слова
Слово и речь
Имя и именование
Речь и именование
Как быть с «афонским иноком Иисусом»?
Имя и икона
Имяславец-схоласт
Символизм и феноменология
Диалектика по Лосеву
Черты биографии и научные интересы
Сергиев Посад в жизни А. Лосева. Загадки лосевской судьбы
Проблема антисемитизма Лосева
Лосев и Флоренский
Строение слова
Диалектика имени
Все на свете есть слово
Мифы Лосева: космогония, эсхатология
Мифы Лосева: от космогонии к теологии
Мифы Лосева: теология
Проблема символа у Лосева. Темные места лосевской концепции
Указатель имен. Составитель И.И. Ремезова

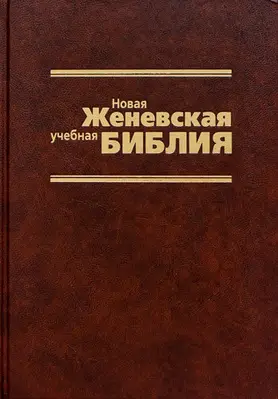
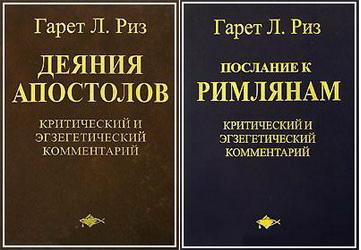

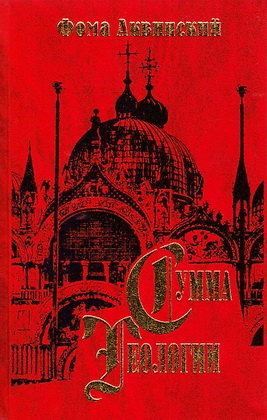
Комментарии
Пока нет комментариев. Будьте первым!