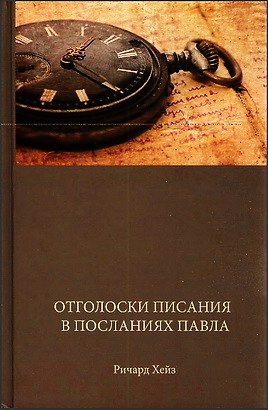
Шмитт - Легальность и легитимность
Если в начале этой работы о «легальности» и «легитимности», характеризуя сегодняшнее государственное состояние Германии, мы говорим, что оно, с точки зрения конституционного и государственного права, есть не что иное, как «крушение парламентского государства законодательства», то в этих словах надо прежде всего видеть не более чем резюмирующую, лаконичную, специально-научную формулу. Оптимистические или пессимистические предположения и прогнозы в данном случае нас не интересуют. О «кризисах» — будь то кризисы биологические, медицинские или экономические, кризисы послевоенные, кризисы доверия, выздоровления, полового созревания, свертывания производства или чего бы там ни было — мы тоже говорить не будем. Чтобы правильно уразуметь всю проблематику современного понятия легальности, связанного с ним понятия парламентского государства законодательства и проблематику правового позитивизма, унаследованного от довоенного времени, необходимо прежде всего обратиться к тем определениям государственно-правовых и конституционноправовых понятий, в которых современное внутриполитическое положение рассматривается в его государственных взаимосвязях.
Итак, «государством законодательства» мы здесь называем определенного вида политическое сообщество (Gemeinwesen), особенность которого состоит в том, что высшее и решающее выражение общей воли оно усматривает в установлении норм, которое желает быть правом, а потому вынуждено притязать на определенные качества и требует, чтобы им были подчинены все прочие публичные функции, дела и сферы жизни. То, что с XIX века считалось в Европе «правовым государством», на самом деле представляло собой лишь государство законодательства, а точнее говоря — парламентское государство законодательства. Преобладающее и центральное положение парламента основывалось на том, что, будучи «законодательным органом», он и определял эти нормы с высоты всего своего достоинства, присущего законодателю (législateur).
Государство законодательства — это государственное образование (Staatswesen), подчиненное безличным (и потому всеобщим) и предопределенным (и потому рассчитанным на длительный срок) нормативным установлениям, содержание которых изначально поддается измерению и определению, то есть это такое государственное образование, в котором закон и его исполнение, законодатель и применяющие закон учреждения отделены друг от друга. В таком государстве «господствуют законы», а не люди, не какие- либо авторитеты и власти. Говоря точнее, законы не господствуют, а значимы лишь как нормы. Господства и одной лишь голой власти в таком государстве вообще больше нет. Тот, кто осугцествляет власть и господство, действует «на основании закона» или «именем закона». Он преследует только одну цель: более детально прописать значимость [более общей] значимой нормы. Законы принимаются законодательной инстанцией, которая сама, однако, не властвует, не вводит в действие и не применяет изданные ею законы: она только разрабатывает те или иные значимые установления, на основании которых потом исполнительные органы на практике осуществляют государственную власть. Организационное осуществление государства законодательства всегда ведет к отделению закона от его применения, законодательной власти от исполнительной. Это не какое-то теоретически выдуманное разделение и не просто основанное на психологии стремление не допустить злоупотребления властью: это совершенно необходимое конструктивное основоположение государства законодательства, в котором нет места господству отдельных лиц, но должны быть значимы нормы. Последний, подлинный смысл фундаментального «принципа законосообразности» всей государственной жизни заключается в том, что здесь в конечном счете больше вообще не господствуют и не повелевают, поскольку силу имеют только безличные нормы. Такое государственное образование находит свое оправдание во всеобщей легальности любого государственного исполнения власти. Замкнутая в себе система легальности обосновывает требование послушания и оправдывает тот факт, что любое право на сопротивление просто устраняется. Здесь специфическим проявлением права является закон, а специфическим оправданием государственного принуждения — легальность.
Карл Шмитт - Легальность и легитимность
Перевод с немецкого Ю. Ю. Коринца, А. П. Шурбелёва, А. Ф. Филиппова под редакцией А. Ф. Филиппова. – Санкт-Петербург: Владимир Даль, 2024. – 322 с.
ISBN 978-5-93615-375-4
Карл Шмитт - Легальность и легитимность – Содержание
Введение
- I. Система легальности парламентского государства законодательства
- 1. Государство законодательства и понятие закона
- 2. Легальность и равные шансы на политическое завоевание власти
- II. Три чрезвычайных законодателя Веймарской конституции
- 1. Чрезвычайный законодатель ratione materiae; вторая главная часть Веймарской конституции как вторая конституция
- 2. Чрезвычайный законодатель ratione supremitatis; подлинный смысл: плебисцитарная легитимность вместо легальности государства законодательства
- 3. Чрезвычайный законодатель ratione necessitatis; подлинный смысл: мера, принимаемая административным государством, вытесняет закон парламентского государства законодательства
Заключение
Приложение
Послесловие издателя
Послесловие к изданию 1958 года
Исправления Карла Шмитта
А. Ф. Филиппов. Легальность и легитимность в исторической перспективе
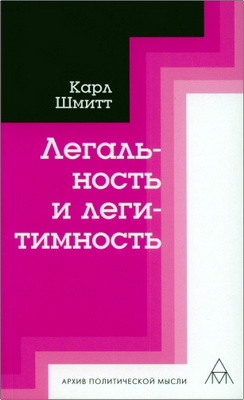
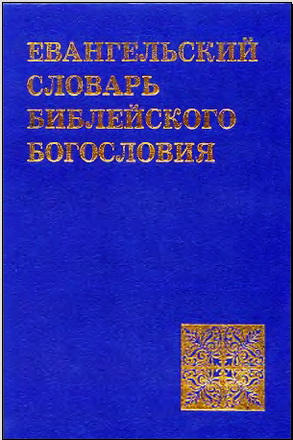
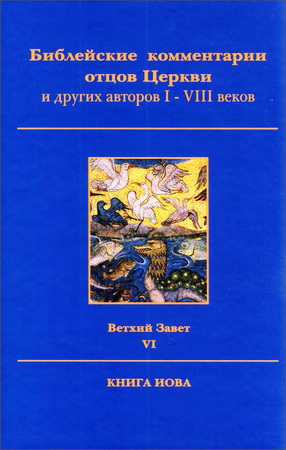
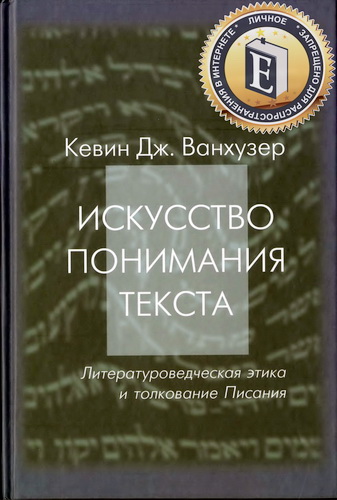
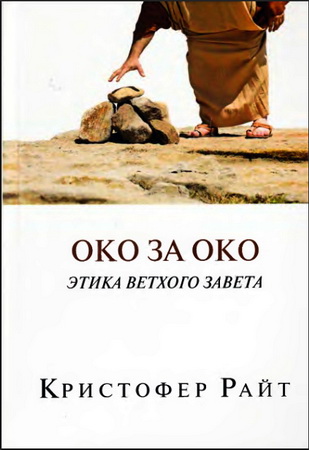
Комментарии
Пока нет комментариев. Будьте первым!