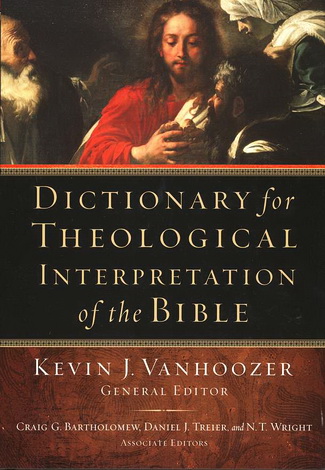
Слотердайк, Хайнрихс – Солнце и смерть
Ганс-Юрген Хайнрихе: Господин Слотердайк, название Вашей книги «Опыт на себе» («Selbstversuch», 1996) вызывает у меня несколько неприятное чувство: оно заставляет вспомнить о холодной атмосфере лаборатории, в которой можно изувечить и даже убить себя. Возникает впечатление, будто речь идет об опыте такого рода, когда человек оказывается между жизнью и смертью.
В книге «Ecrits» («Сочинения») писательницы Лауры — спутницы жизни Жоржа Батая, — есть рассказ о том, как она девочкой имела обыкновение сидеть перед зеркалом своей матери. Это было трюмо, состоявшее из трех частей, которые можно было поворачивать относительно друг друга. С помощью этого устройства она расчленяла свое тело на части, а затем снова составляла его из частей.
Она истолковала этот экзистенциальный опыт расчленения и последующего воссоединения как условие, предварившее ее мышление и писательское творчество. Если говорить, к примеру, о произведениях Уники Цюрн, Ханса Беллмера или о работах Лакана, то в них опять-таки можно обнаружить этот элемент саморасчленения, элемент покалеченного и разделенного на куски тела.
Проистекает ли Ваш способ философствования из такого измерения — из личного опыта разорванности и цельности? Петер Слотердайк: Наверняка. Ведь без экзистенциального импульса философия была бы пустой и пошлой затеей. В то же время я полагаю, что Вы, развернув столь богатый контекст выражения «опыт на себе», несколько вышли за пределы цели, которую я ставил, формулируя название книги.
Я не любитель немецкого импрессионизма, в котором было столь распространено философствование на грани жизни и смерти. Вероятно, эти позы и жесты были связаны с переживаниями человека, вышедшего в 1918 году из окопов <Первой мировой войны. —А. П.>: он смутно чувствовал, что уже никогда не вернется домой по-настоящему, как выразился один из героев «Лунатиков» («Schlafwandlern») Германа Броха.
Когда я говорю об опыте на себе, я думаю не о вивисекторских экспериментах над собственным телом, и не о романтизации психоза, свойственной французскому психоанализу. Употребляя это выражение, я не присоединяюсь ни к Камю, который утверждал, что есть только одна действительная проблема в философии—проблема самоубийства, ни к Новалису, который глубокомысленно заметил, что самоубийство — единственный «подлинно философский» поступок.
Петер Слотердайк, Ганс-Юрген Хайнрихс – Солнце и смерть: Диалогические исследования
Перевод с Немецкого – А. В. Перцева
Издательство – «Ивана Лимбаха» – 608 с.
Санкт-Петербург – 2015 г.
ISBN 978-5-89059-232-3
Петер Слотердайк, Ганс-Юрген Хайнрихс – Солнце и смерть: Диалогические исследования – Содержание
- За философию, реагирующую чрезмерно
- Ужасы современной эпохи, о которых прожужжали все уши
- О необходимости писать альтернативную историю революции
- Похвала преувеличению
- Европа и ее монополия на печаль
- Обмен взглядами между Наполеоном и Гегелем
- Солнце и смерть
- Речь о человекопарке и ее последствия
- Гуманизм и следы травмы: Подтексты одних дебатов
- Висящее в воздухе мышление: К критике невыразимого словами
- «Правила для человекопарка», или Мыслить молнию!
- Медиалогия арены
- Молекулярная биология и биогносис, или Еще раз о временах после гуманизма
- К общей поэтике пространства
- О «Сферах I»
- Археология интимного
- Мышление о мире-между
- Логика симбиоза
- Между Хайдеггером и Лаканом
- Вселенная и прибежище
- Я предрекаю философии иное прошлое
- О «Сферах II»
- Микросферы — макросферы
- Первый конструктивизм
- Проект Всемирной Души
- Ретроспективный обзор политической сферологии империй
- Сходящиеся в пары крайности: Философское измерение глобализации
- Террестрическая глобализация как история балдахинов
- Работа по сопротивлению
- Во власти одной загадки
- Аналитическое и синтетическое
- О цензуре, нормализации, толковании сопротивления
- Герои сопротивления
- Переформатирование субъекта
- Амфибическая антропология и информальное мышление
- О морали борьбы и мистики
- О взрывах и сдавливаниях
- Аспекты расточительства и идея амфибийной антропологии
- Гимнософистские упражнения
- Тяжелая, как свинец, глобализация
- Море, воздух и кондиционирование воздуха
- Спокойствие и неоднозначность
- Литература
- Указатель имен
- Александр Перцев
- Сферология Петера Слотердайка:
- Запад сто лет спустя после заката
Петер Слотердайк, Ганс-Юрген Хайнрихс – Солнце и смерть: Диалогические исследования – Похвала преувеличению
Г.-Ю. X.: Вы говорите в книге «Опыт на себе» о том, что революция может происходить и как повторение собственного рождения — на какой-то другой сцене. Вдобавок Вы напоминаете об описанном у Платона перевороте в душе, благодаря которому она «освобождается от заблуждений». Все это, как представляется, тяжеловесные и несподручные понятия, глубоко укорененные в терапии и в истории идей. А между тем у меня, как и у многих читателей Ваших произведений, возникло впечатление, что в Вашем образе письма преобладают ироническая надломленность и сатирические колкости, местами даже известный цинизм. Нет ли в этом какого-то пафоса или завуалированного идеализма?
Другими словами, не было ли у Вас какого-то тайного прозрения, которое Вы — неважно, по каким причинам, — не хотели выставлять напоказ в неприкрытом и незащищенном виде? П. С.: По этому поводу я хочу сказать две вещи. Первое: пафос у меня есть, я умею петь и лирические песни — бывает, даже и прямо посреди логического аргумента, который привожу. В большинстве моих книг можно найти места, где есть бельканто; то там, то здесь встречаются островки лиризма и изящные пассажи, если можно так выразиться. Второе: я использую пафосные средства экономно. Даже те немногие лиризмы, которые я себе позволил, привели к нехорошим результатам, кое-чему меня научившим.
В нашей стране есть фундаментальная склонность—нападать на те места, которые автор не защитил надлежащим образом, и считать допустившего такое автора скомпрометированным. Часто полагают, что автор опровергнут, если его застали врасплох на чересчур прекраснодушных формулировках. Сам я определяю, допустимы пафосные обороты или нет, глядя на контекст. Если он соответствует, я такие обороты допускаю — правда, лишь в тех условиях, которые хорошо просматриваются и которые поддаются контролю в литературном плане. Я никогда не зайду так далеко, как Эрнст Блох, который в немецкой литературе XX века стоит особняком — как мастер пафоса.
Возвышенный тон в философской прозе — это искусственный прием, используемый, чтобы пометить средствами языка подлинное человеческое существование на фоне великих обстоятельств — это не имеет ничего общего с мессианскими порывами и универсалистскими самонадеянными дерзостями. В остальном ирония делает свое дело — позволяет управляться с тяжеловесными, неудобными понятиями. Что же касается так называемой провидческой составляющей философской работы, то это — совсем другое. Я отнюдь не идеалист, но еще меньше — циник, во всяком случае, ad hoc. Я избегаю этих двух вариантов благодаря простому соображению. Я определяю философа следующим образом: это — тот, кто не может сопротивляться умственным прозрениям, проникающим в суть больших взаимосвязей.
Этого вполне достаточно, чтобы найти замену идеализму. Мне кажется, что все записные идеалисты, неоплатоники или мыслители отчетливо холистического типа скопом впали в иллюзию, что к проблемам, которые даны им для осмысления, непременно следует присовокуплять собственную взволнованность и персональную добрую волю. Мне кажется странной такая иллюзия — или, лучше сказать, такое набивание себе цены; мне чего-то недостает, чтобы действительно понять подобное. Я, скорее, склоняюсь к концепции, что люди — это существа, которые, едва они начинают думать, тут же становятся своего рода заложниками великих тем. Стоит нам привести в действие свой ум, как мы тут же чувствуем, что оказываемся в плену проблем, которые куда-то нас влекут.
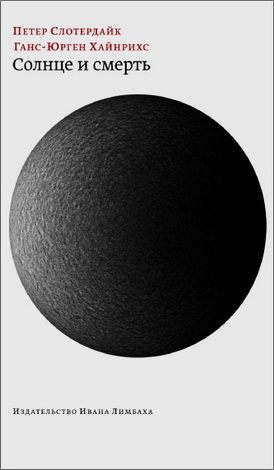
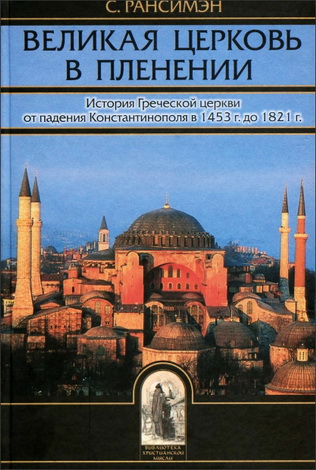

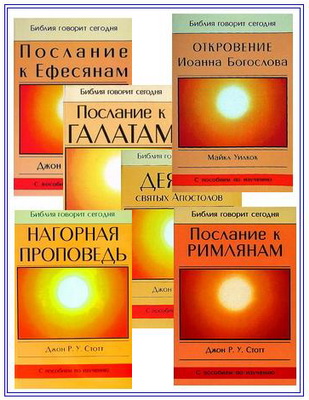
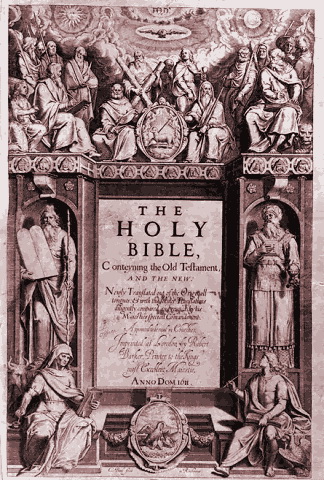
Комментарии (1 комментарий)
спасибо