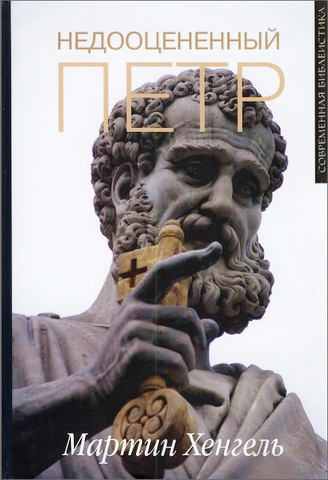
Толстой - Религиозно-философские и социально-политические сочинения
Несомненно, писать о Л. Н. Толстом как о русском религиозном мыслителе, который не только «всем сердцем и всею душою», но и, наконец, «всем разумением своим» (Мф. 22:37) пытался раскрыть отношения божеского и человеческого, безусловного и обусловленного, — дело в высшей степени непростое, но архиважное. Вот он пишет: «Можно сознавать Бога в себе самом. Когда сознаешь Его в себе самом, то сознаешь Его и в других существах (и особенно живо в людях). Когда сознаешь Его в себе и в других существах, то сознаешь Его и в Нем самом» [58, 120]. Понятно, почему для религиозно и философски мыслящих соотечественников он уже перестаёт быть только лишь Львом русской литературы, ибо становится полноправным деятелем мировой религиозно-философской мысли и даже, по мнению некоторых приверженцев его понимания христианства, «провозвестником новой реформации»,1 хотя до конца и не признанным на официально-государственном уровне. Благо, что в атеистические годы советской власти все его ранее запрещенные произведения религиозно-философского содержания были изданы. Напомним, что в конце 1918 года при непосредственной поддержке со стороны В. И. Ленина стал продвигаться вопрос об издании Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого. Договор Госиздата с В. Г. Чертковым как с главным редактором Юбилейного издания, издателем ранее запрещённых произведений великого русского писателя и мыслителя и его близким другом был подписан 2 апреля 1928 года, хотя в свободном доступе крайне непросто было найти такие произведения, как «Исповедь» (1881), «Исследование догматического богословия» (1884), «В чём моя вера?» (1885), «О жизни» (1886-1887), «Царство Божие внутри вас» (1890-1893), «Религия и нравственность» (1893), «Христианское учение» (1894-1896), «Почему христианские народы вообще и в особенности русский находятся теперь в бедственном положении?» (1907) и «Не могу молчать» (1908), то есть произведения, в которых была чётко выражена собственная точка зрения русского писателя на христианское вероучение в его связь с жизнью нашего народа. Более того, Толстой и до сих пор остаётся неизвестной личностью, дерзнувшей разумным способом прояснить проблему божественного, нетленного в нас самих, дабы ответить на сокровенный вопрос «Зачем мы живём?». «Нет смерти, потому что человек переносит свою жизнь в служение вечному закону мира. <...> Но это невозможно, скажут те, которые не могут отрешиться от личной жизни. Напротив, невозможно обратное. <...> Прививок разума, выросший на дичке жизни, есть единственный двигатель жизни. Он поглощает все, и всякая деятельность жизни облекается в разумную, бессмертную жизнь» [85, 396]. Понятно, что так мыслить великий русский писатель мог далеко не вдруг и не сразу, а только пройдя далеко не простой путь духовного испытания. Только когда уже был написан роман-эпопея «Война и мир», а «Анна Каренина» подходила к своему завершению, он, подобно своему герою Константину Левину, стал осознавать в себе самом ту болезненную отрицательность, связанную с невозможностью жить и верить по-прежнему. Возьмём, к примеру, следующее размышление Константина Левина: «Это было то, что если главное доказательство Божества есть Его откровение о том, что есть добро, то почему это откровение ограничивается одною христианскою церковью? Какое отношение к этому откровению имеют верования буддистов, магометан, тоже исповедующих и делающих добро?» [19, 396]. Поэтому задача состоит в том, чтобы не только самим разобраться, но и донести до сознания всего честного народа суть и необходимость периода его духовного рождения [46, IX], последнего и, заметим, самого продолжительного периода его жизни (1877-1910), когда он буквально доходит до полного отрицания всех предшествующих этапов стихийного созревания «своего божественного я».
«И эта работа, — читаем его дневниковые записи, — и радостная, и неспешная, и всегда по силам, и всегда по мере того, как прилагаешь к ней силы, совершается и никогда не кончается» [57, 98].
Быть заодно с духом жизни
Если мы обратим внимание на некоторые дневниковые откровения Льва Николаевича Толстого конца 70-х годов XIX столетия, то они, несомненно, могут помочь нам понять существо изменений мировоззрения великого русского писателя. Причём эти изменения касаются не только его, но и тех из нас, кто так или иначе преодолевает индивидуально-особенное в себе самом и претерпевает рождение своего истинно духовного я [37, 196]: «Что я здесь, брошенный среди мира этого? К кому обращусь? У кого буду искать ответа?» [48, 351]; «Читал Евангелие. Везде Христос говорит, что всё временное ложно, одно вечное, то есть настоящее. ״Птицы небесные“ и др. И на религию смотреть исторически есть разрушение религии» [48, 70]; «Вера, пока она вера, не может быть подчинена власти по существу своему, — птица живая та, что летает» [48, 196]; «Утверждать учение Христа чудесами — всё равно, что свечу держать перед солнцем, чтобы оно виднее было [48,325]; «Растрепали учение по клочкам и на каждое слово наложили свой смысл глупый... противный Христу. Вот заграждающие вход и сами не входящие» [48, 328]; «Бог — бесконечная жизнь, разум» [48, 334].
Предварительный вывод, к которому стал приходить Толстой, заключался в том, что вера не может оставаться на уровне представлений с многочисленными знамениями и чудесами, доступными обычному сознанию, она просто не может не развиваться духовно, не становиться разумеющей истину. Однако радикальное изменение, или, выражаясь в духе немецкого философа И. Канта, революция в образе мыслей,1 которая была совершена Толстым уже в начале 80-х годов XIX столетия, не могла не вызвать определенную, далеко не лестную реакцию со стороны поклонников его писательского таланта. К примеру, А. А. Фет критиковал его за вольность трактовок библейских текстов,2 Ф. Μ. Достоевский, по словам Н. Н. Страхова, за недостаточное почитание Пушкина [63, 25], литературный критик В. В. Стасов в письме от 6 октября 1880 г. выразил своё недоумение словами «Я страшно боюсь, чтобы вы как-нибудь не изгадились», а И. С. Тургенев и вовсе называл религиозно-философские занятия Толстого глупостями, призывая общественность к активному воздействию на его отклонения: «Надо ему сказать и показать, чтобы он этих глупостей не делал» [63,16]. Увы, «тёмные», как стали называть Толстого и его сподвижников в его семье (за исключением Марии Львовны!) [66, 44], были неисправимы. В итоге в силу накопившихся с годами превратных представлений о великом мыслителе нашим современникам будет далеко не просто отделить плевелы от зёрен.
Толстой Л. Н. — Религиозно-философские и социально-политические сочинения
сост. и предисл. А. Г. Ломоносова. — СПб.: Владимир Даль, 2025. — 692 с.
ISBN 978-5-93615-344-0
Толстой Л.Н. - Религиозно-философские и социально-политические сочинения — Содержание
- А. Г. Ломоносов. Предисловие
-
Религиозно-философские трактаты
- В чём моя вера?
- О жизни
- Христианское учение
- Что такое религия и в чем сущность ее?
-
Статьи
- Рабство нашего времени
- Неужели это так надо?
- К политическим деятелям
- «Единое на потребу». О государственной власти
- Обращение к русским людям. К правительству, революционерам и народу
- О значении русской революции
- Почему христианские народы вообще и в особенности русский находятся теперь в бедственном положении
- Не могу молчать
- Неизбежный переворот
- Единая заповедь
- О «Вехах»
- Три притчи
- Примечания

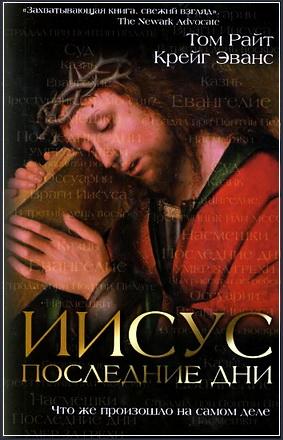
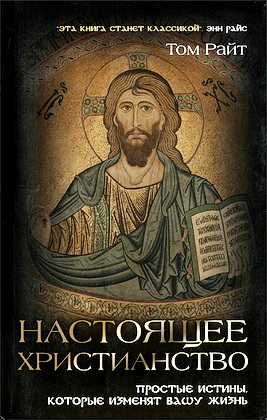
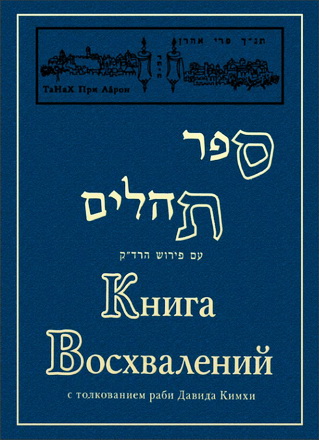
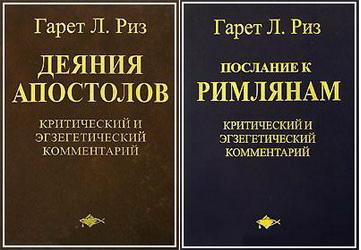
Комментарии (1 комментарий)
В книге собраны почти все важнейшие религиозные произведения Л.Н. Толстого, кроме, пожалуй, так называемого "Евангелия Толстого". Думаю, было бы полезно добавить его в качестве приложения.