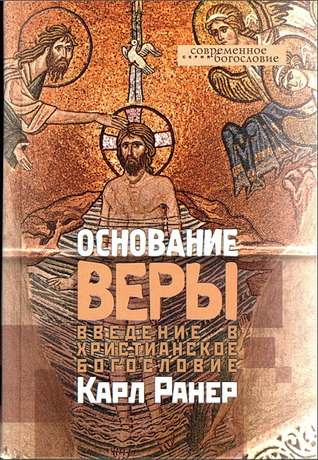
Ячменик - «Духовные вожди»
В XIX веке Российская церковь столкнулась с повсеместной критикой базового для нее принципа иерархичности. Епископат воспринимался как часть бюрократической системы империи, а священство осмыслялось скорее в функциональном (необходимом для поддержания порядка и выполнения соответствующих обрядов), чем в пастырском ключе. Поскольку статус духовенства в обществе стремительно снижался, возник запрос на расширение возможного круга носителей властных полномочий в церковном сообществе. По крайней мере, на учительную роль иерархов начинают претендовать и те, кто не встроен в традиционную иерархическую структуру церкви. Этот процесс был связан не только с расширением круга потенциальных носителей власти, но и с одновременной критикой ее традиционных представителей. Обнаруживающий себя таким образом кризис доверия к церковной власти, как видится, затрагивал широкий культурный контекст1.
Те тенденции европейской мысли fin de siècle, которые описываются в категориях неформального и личностного, ставили тогда новые вопросы перед теологией. Прежде всего это влияние сказалось на интеллектуальных поисках новых оснований в области учения о церкви (экклезиологии), предпринимаемых как внутри церковного сообщества, так и вне его. Эти поиски, с одной стороны, вполне вписываются в тот процесс, который можно было бы обозначить как антиинституциональный поворот в русской религиозной мысли. В это время критика обмирщения церкви, ее бюрократизации и замкнутости развивается даже внутри богословской школы, которая еще в середине XIX века находилась в антагонизме с представителями внеакадемического богословия или философской теологии1. Вслед за критикой бюрократической модели государства подвергся критике и образ церкви как клерикальной корпорации, в рамках которого церковные должности воспринимались как часть политического аппарата. В раннее Новое время категория должности уже соотносится с фигурой священника2, но к началу XX века эта категория приобретает отрицательные коннотации, связанные не столько с долгом и обязанностями, сколько с занимаемым административным положением3. С другой стороны, феномен церковной власти проблематизируется в связи с трансформацией представлений о церковности как априорной социальной данности. К концу XIX века в России принадлежность к церковному сообществу перестала считаться заданной изначально: хотя формально она оставалась частью юридического статуса до 1917 года, участие в церковной жизни все чаще становилось делом личного выбора1. Многие русские интеллектуалы этого времени мотивировали свой выбор в пользу церкви на основании личного религиозного обращения2. Сложившаяся ситуация требовала от церковной иерархии обосновывать свои полномочия в полемике с теми, кто отныне сам определял свою религиозную принадлежность. Культурный контекст эпохи тем самым вынуждал преодолеть разрыв между традиционным для академического богословия пониманием власти и ее современным переосмыслением. Поэтому вопрос о религиозном лидерстве стал более интенсивно обсуждаться среди церковных интеллектуалов.
Ячменик, В. - «Духовные вожди»: Понятие харизмы и фигуры религиозного лидерства в России начала XX века
М.: Новое литературное обозрение, 2025. — 288 с. (Серия «Studia religiosa»)
ISBN 978-5-4448-2693-5
Ячменик, В. - «Духовные вожди»: Понятие харизмы и фигуры религиозного лидерства в России начала XX века - Содержание
- Предисловие
- Благодарности
- Введение
- Понятие харизмы в науке на рубеже веков
- Источники и границы исследования
- Подходы к изучению российских дискуссий о харизме
-
Глава I. Понятие «харизма» в контексте дискуссий о власти. Из протестантской Германии в православную Россию
- 1.1. Понятие харизмы в протестантской теологии конца XIX века
- 1.2. Вхождение понятия «харизма» в контекст русской религиозной мысли
-
Глава 2. Значение харизмы как источника личностной власти
- 2.1. Носители личностной харизмы и кризис церковной идентичности
- 2.2. Дискуссии о месте личной харизматической власти в церковном сообществе
-
Глава 3. Идея должностной харизмы в контексте церковных реформ
- 3.1. Осмысление должности как харизмы в академическом богословии предреволюционных лет
- 3.2. От должностной харизмы к особой харизме епископа в дискуссиях о церковной реформе
- 3.3. Концепт харизмы патриарха на Поместном соборе 1917-1918 годов и его развитие
- Заключение
- Список сокращений
- Список источников и литературы
- Указатель имен

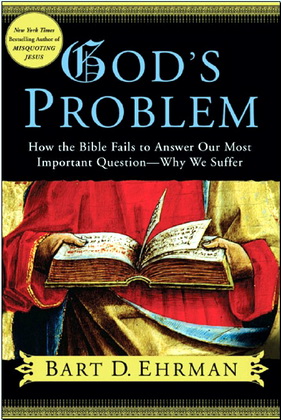
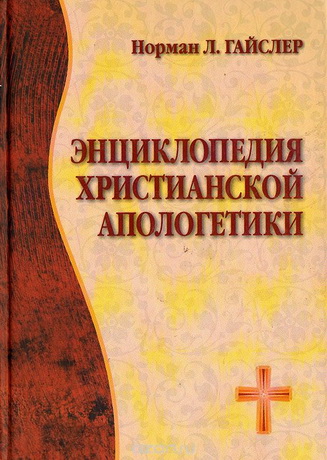
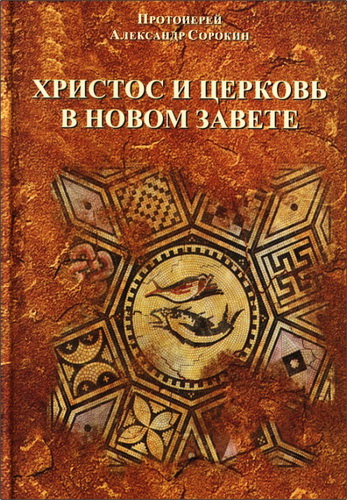
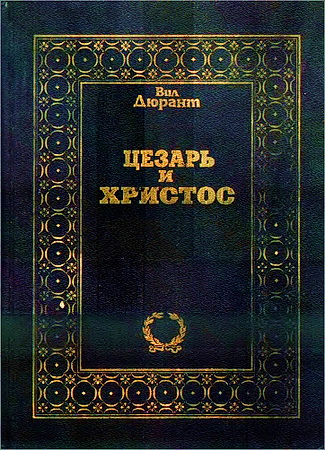
Комментарии
Пока нет комментариев. Будьте первым!