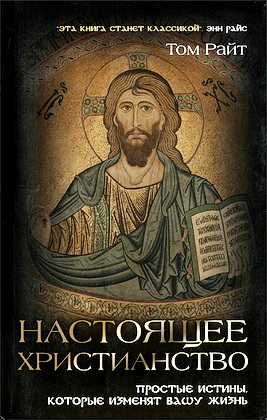
Бодрийяр - Система вещей
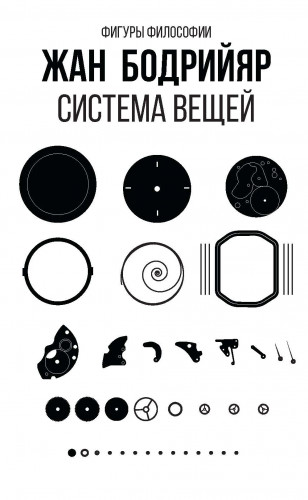
Поддается ли классификации буйная поросль вещей — наподобие флоры или фауны, где бывают виды тропические и полярные, резкие мутации, исчезающие виды? В нашей городской цивилизации все быстрее сменяют друг друга новые поколения продуктов, приборов, «гаджетов», в сравнении с которыми человек выступает как вид чрезвычайно устойчивый. Если вдуматься, их изобилие ничуть не более странно, чем бесчисленная множественность природных видов, а им человек уже составил подробную опись. Причем в ту самую эпоху, когда он начал делать это систематически, он сумел также создать в Энциклопедии исчерпывающую картину окружавших его бытовых и технических предметов. В дальнейшем равновесие нарушилось: бытовые вещи (о машинах здесь речи нет) стремительно размножаются, потребностей становится все больше, процесс производства заставляет вещи рождаться и умирать все быстрее, в языке не хватает слов, чтобы их именовать.
Так возможно ли расклассифицировать этот мир вещей, меняющийся у нас на глазах, возможно ли создать его дескриптивную систему? Критериев классификации как будто почти столько же, сколько самих вещей: классифицировать вещи можно и по величине, и по степени функциональности (как вещь соотносится со своей объективной функцией), и по связанной с ними жестуальности (богатая она или бедная, традиционная или нет), и по их форме, долговечности, и по тому, в какое время дня они перед нами возникают (насколько прерывисто они присутствуют в поле нашего зрения и насколько мы это осознаем), и по тому, какую материю они трансформируют (это ясно в случае кофемолки — ну, а как быть с зеркалом, радио, автомобилем?
А ведь любая вещь что-то трансформирует), и по степени исключительности или же обобществленности пользования (вещи личные, семейные, публичные, нейтральные), и т.д. Применительно к такому материалу, как вещи, которые все в целом находятся в состоянии непрерывной мутации и экспансии, любая такая классификация может показаться едва ли не столь же случайной, как алфавитный порядок. Уже в каталоге Сент-Этьенской Оружейной мануфактуры задавалась если не структура, то некоторые подразделения системы вещей, но там речь шла только о таких вещах, которые определяются своей функцией; каждой вещи там соответствует некоторая операция, зачастую ничтожная и причудливая, и нигде не затрагивается общая система значений.
Бодрийяр Жан - Система вещей
пер. с фр. С. Н. Зенкина
М: РИПОЛ классик, 2020, 256 с.
Серия "Фигуры Философии"
ISBN 978-5-386-13694-9
Бодрийяр Жан - Система вещей - Содержание
О первой книге Жана Бодрийяра
С. Зенкин
Введение
А. Функциональная система, или дискурс объекта
- I. Структуры расстановки
- II. Структуры среды
- III. Заключение: природность и функциональность
- Приложение: домашний мир и автомобиль
В. Нефункциональная система, или дискурс субъекта
- I. Маргинальная вещь — старинная вещь
- II. Маргинальная система: коллекция
С. Мета- и дисфункциональная система: гаджеты и роботы
D. Социоидеологическая система вещей и потребления
- I. Модели и серии
- II. Кредит
- III. Реклама
Заключение: к определению понятия «потребление»
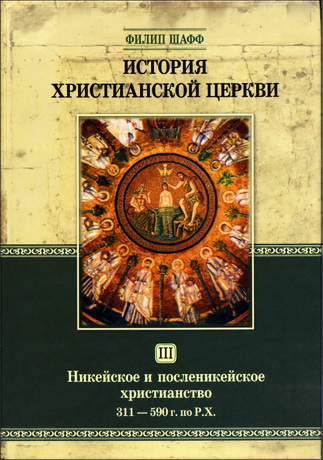
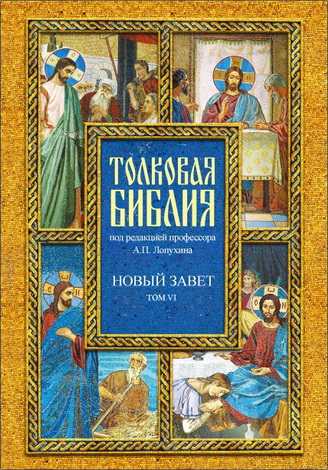
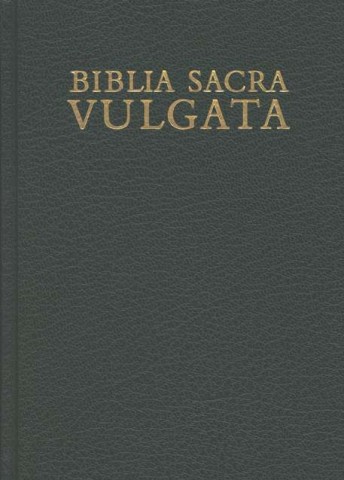
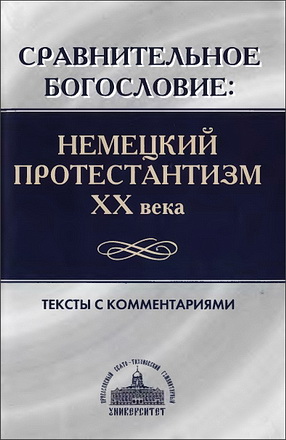
Комментарии
Пока нет комментариев. Будьте первым!