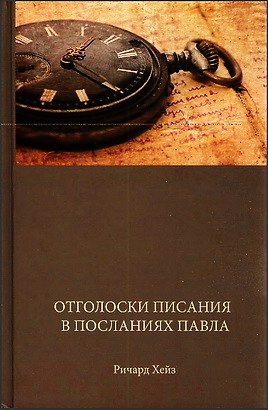
Харт - Traditio Deformis - О неправильном прочтении Послания к Римлянам Августином
Долгая история ошибочной христианской экзегезы Священного Писания, вызванной проблемными переводами, является богатой, и её сокровища слишком многочисленны и изысканно разнообразны, чтобы их адекватно классифицировать. Но я думаю, что большинство из них можно расположить вдоль единого континуума в четырёх широких разделах: некоторые неверные толкования вызваны ошибкой переводчика, другие — просто сомнительными переводами определённых слов, третьи — незнанием (исторически специфического) идиоматического выражения автора оригинала, а четвёртые — «непереводимой» удалённостью собственных (культурно специфических) богословских интересов автора. И каждый вид сопряжён со своими особыми опасностями и последствиями.
Дэвид Бентли Харт - Traditio Deformis - О неправильном прочтении Послания к Римлянам Августином
https://firstthings.com/traditio-deformis/
май 2015
Но позвольте мне проиллюстрировать. Возьмём, к примеру, авторитетное толкование Послания к Римлянам Августином, изложенное в его многочисленных трудах, а затем и его богословскими наследниками: возможно, это самое возвышенное «сильное неверное толкование» в истории христианской мысли, которое включает в себя образцы всех четырёх классов заблуждений. К первому, например: заведомо вводящий в заблуждение латинский перевод Римлянам 5:12, который обманул Августина, заставив его вообразить, что Павел верил, будто все люди каким-то таинственным образом согрешили «в» Адаме, что заставило Августина всё настойчивее рассматривать первородный грех — рабство смерти, умственную и нравственную немощь, отчуждение от Бога — с точки зрения унаследованной вины (понятие столь же логически последовательное, как и квадратный круг), и что побудило его с такой энергичной силой утверждать справедливость вечных мучений некрещёных младенцев.
И ко второму: например, то, как непонимание Августином Павловой теологии избрания усугубилось простым совпадением того, что такой слабый глагол, как греческое proorizein («заранее намечать», «планировать» и т. д.), был переведён как praedestinare — этимологически оправдано, но коннотативно невозможно. И к третьему: частое непонимание Августином того, в какой степени для Павла «дела» (erga, opera), которые он противопоставляет вере, являются делами Моисеева закона, «соблюдениями» (обрезание, правила кошерности и так далее). И к четвёртому — что ж, доказательств предостаточно: попытка Августина обратить первые два члена в порядке избрания, изложенном в Римлянам 8:29–30 («Кого Он предузнал, тех и предопределил»); или его готовность, цитируя Римлянам 5:18, цитировать протасис («Посему, как одним человеком грех вошёл в мир и грехом смерть»), но его нежелание цитировать (строго изоморфный) аподосис («так и одним человеком праведность вошла в мир и праведностью жизнь для всех людей»); или, конечно, всё его толкование Римлянам 9–11...
Ах — здесь таится история.
Не то чтобы аргумент Павла там был труден для понимания. Его занимает мучительная тайна, заключающаяся в том, что Мессия пришёл, но так мало из дома Израилева приняли Его, в то время как так много язычников — вне завета — приняли. Что же тогда с верностью Бога Его обетованиям? Это не абстрактный вопрос о том, кто «спасён», а кто «проклят»: к концу 11-й главы первая категория оказывается значительно больше, чем категория «избранных» или «призванных», в то время как последняя категория вообще не появляется. Это конкретный вопрос, касающийся Израиля и Церкви. И в конечном итоге Павел приходит к ответу, искусно извлечённому из логики избрания в еврейском Писании.
Однако, прежде чем дойти до этого момента, совершенно и явно условно, он обрисовывает проблему в самых резких светотеневых контрастах. Мы знаем, говорит он, что божественное избрание — это дело одного только Бога, оно не заработано, а дано; язычники-верующие избраны не по своим заслугам. «Иакова Я возлюбил, а Исава возненавидел» (9:13) — здесь цитируется Малахия, для которого Иаков является прообразом Израиля, а Исав — прообразом Едома. Для Своих собственных целей Бог ожесточил сердце фараона. Он милует, кого хочет, и ожесточает, кого хочет (9:15–18). Если вы считаете это несправедливым, кто вы, о человек, чтобы упрекать Бога, создавшего вас? Не может ли горшечник лепить свою глину для целей как высоких, так и низких, по своему выбору (9:19–21)? И, стало быть, что если (ei de, quod si) Бог явит Свою силу, приготовив сосуды гнева, исключительно для уничтожения, чтобы предоставить поучительный контрапункт к богатствам славы, которую Он щедро изливает на сосуды, приготовленные для милости, которых Он призвал как из иудеев, так и из язычников (9:22–24)? Возможно, это просто так: только избранные должны быть спасены, а остальные оставлены отверженными, как проявление божественной мощи; верность Бога — Его собственное дело.
Что ж, пока всё по Августину. Но опять же, чисто условно: «Что если... ?» Вместо того чтобы предложить решение мучающей его дилеммы, Павел просто пересказывает её в своей самой мрачной форме, на самой грани отчаяния. Но затем, вместо того чтобы остановиться здесь, он всё же продолжает сомневаться в Божьей справедливости и проводит следующие две главы, недвусмысленно отвергая этот предварительный ответ, чтобы прийти к совершенно иному — и гораздо более славному — выводу.
На протяжении всей книги Бытия образец Божьего избрания постоянно, даже извращённо антиномичен: снова и снова старший, кому по праву принадлежит первородство, вытесняется младшим, которого Бог избрал вопреки всякой естественной «справедливости». Это практически лейтмотив, объединяющий весь текст, от Каина и Авеля до Манассии и Ефрема. Но — это важно — это образец не исключения и включения, а задержки и отклонения, которое значительно расширяет сферу избрания, включая брата, «справедливо» оставленного, таким образом, чтобы это принесло пользу брату, «несправедливо» обойдённому. Это наиболее ясно видно в историях Иакова и Иосифа, и именно поэтому Исав и Иаков служат столь подходящей типологией для аргумента Павла. Ибо Исав в конечном итоге не отвергнут; братья примиряются, к приумножению обоих именно из-за их временного отчуждения. И Иаков говорит Исаву (не наоборот): «Видеть твоё лицо — это как видеть Бога».
И так продолжает Павел. В случае Израиля и Церкви избрание стало ещё более буквально «антиномичным»: Христос — конец закона, чтобы все могли достичь праведности, не оставляя различия между иудеем и язычником; таким образом, Бог благословляет каждого (10:11–12). Что касается верующего «остатка» Израиля (11:5), то они избраны не как число «спасённых», но как залог, через который весь Израиль будет спасён (11:26), часть, которая делает целое святым (11:16). И снова, провиденциальная эллиптичность хода избрания значительно расширяет его охват: сейчас часть Израиля ожесточена, но только до тех пор, пока не войдёт «полное число» (pleroma) язычников; им, однако, не было позволено споткнуться только для того, чтобы упасть, и если их нынешняя неудача обогащает мир, то насколько больше обогатит их собственное «полное число» (pleroma); временно отвергнутые для «примирения мира», они претерпят восстановление, которое будет «воскресением из мёртвых» (11:11–12, 15).
Это, стало быть, сияющий ответ, рассеивающий тени мрачного «что если» Павла, ясное отрицание: нет окончательного «иллюстративного» разделения между сосудами гнева и милости; Бог связал всех в непослушании, чтобы проявить милость ко всем (11:32); все являются сосудами гнева, чтобы все могли стать сосудами милости.
Не то чтобы можно было когда-либо быть достаточно ясным. Одно классическое августинианское толкование Римлянам 11, особенно в реформатской традиции, утверждает, что кажущийся экстравагантным язык Павла — «все», «полное число», «мир» и так далее — на самом деле всё ещё означает лишь то, что все народы спасаются только в «образцовой» или «представительной» форме избранных. Это, конечно, абсурд. Павел ясно говорит, что те, кто не был призван, те, кому позволено споткнуться, всё равно никогда не будут допущены до падения. Такое толкование просто оставило бы Павла в той тьме, с которой он начал, свело бы его славное открытие к унылой тавтологии, превратило бы его великолепное видение огромного охвата божественной любви в нелепую карикатуру на её убогую узость. Тем не менее, в целом августинианская традиция в отношении этих текстов была настолько обширной и могущественной, что для миллионов христиан она фактически опустошила аргумент Павла от всего его реального содержания. В конечном итоге это сделало возможными те спазмы богословского и морального нигилизма, которые побудили Жана Кальвина утверждать (в третьей книге «Наставлений»), что Бог предопределил даже грехопадение, и (в своём комментарии к 1 Иоанна), что любовь принадлежит не сущности Бога, а только тому, как Его воспринимают избранные. Sic transit gloria Evangelii.
Должен сказать, что, будучи православным учёным, я на протяжении многих лет прилагал много усилий для защиты Августина от того, что я считаю ошибочными и чисто полемическими восточными толкованиями его мысли в областях метафизики, тринитарного богословия и познания Бога душой (часто к раздражению некоторых моих собратьев-православных). Но что касается той части его интеллектуального наследия, которая оказала самое широкое влияние — его понимания греха, благодати и избрания — я не только разделяю восточное отвращение (или, откровенно говоря, ужас) к его выводам; я даже в некотором роде экстремист в этом отношении. Во всей долгой, богатой истории христианских неверных толкований Писания, ни одно, я думаю, никогда не было более значимым, более непреодолимо вечным или более катастрофическим.
Дэвид Бентли Харт
1 мая 2015

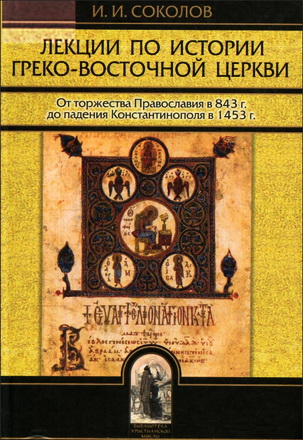
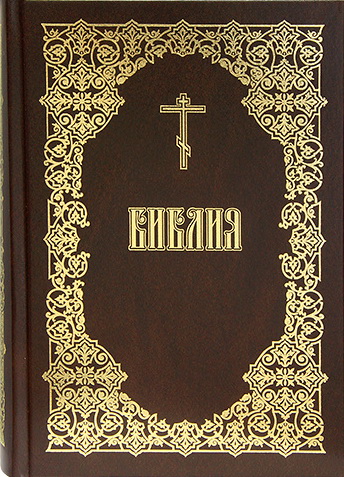
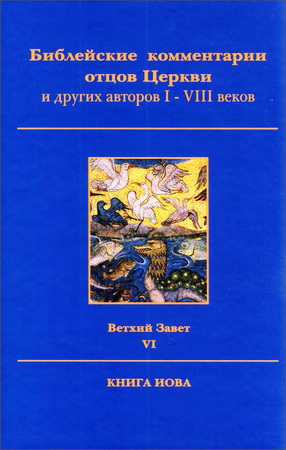
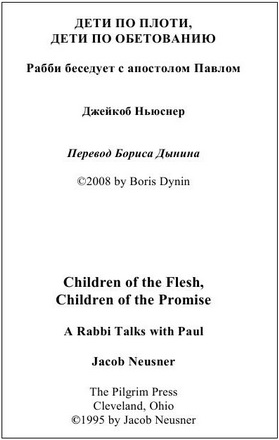
Комментарии (2 комментария)
Большое спасибо!
Спасибо за ценный перевод!