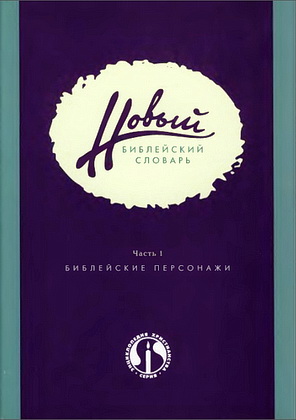
Хиллман - Брошенный ребенок
Исходя из моего опыта аналитика, я могу сказать, что те, кто близко знаком с историями, находятся в лучшей форме и прогноз для них более благоприятен, чем у тех, кому только предстоит с ними познакомиться. Это серьёзное заявление, и я хотел бы разобрать его более подробно. Но я не хочу умалять это аподиктическое утверждение: «повествовательная осознанность» сама по себе психологически терапевтична. Она благотворко влияет на душу.
Знакомство с какими-либо историями в детстве — и здесь я имею в виду устную повесть, рассказанную или прочитанную (ибо чтение имеет устный аспект, даже если вы читаете про себя) вместо того, чтобы следить за сюжетом нЬ. экране — знакомит человека с основами понимания разумной реальности любой истории как таковой. Это понимание обретается одновременно с жизнью, речью и взаимодействием, а не в более позднем периоде, таком, как обучение и литература. Приходя к нам в ранние периоды жизни, история сразу позволяет взглянуть на жизнь в целом. Человек может воспринять свою жизнь через призму повествования, потому что истории уже пребывают в глубине его ума (бессознательного) как хранилища, позволяющие структурировать события в значимые переживания. Истории — это способ поведать самому себе о тех событиях, которые в противном случае вообще не имели бы психологического смысла. (Экономические, научные и исторические объяснения — это разновидности «историй», которые слишком часто оказываются неспособны дать душе искомый имагинативный смысл, необходимый, чтобы понять свою психологическую жизнь).
Если детство человека было наполнено историями, повестями и рассказами, он обычно спокойнее воспринимает патологизированное содержание непристойных, гротескных или жестоких образов, которые спонтанно проявляются в его сне и фантазиях. Те, кто придерживается рационалистической теории разума, кто противопоставляет разум «низшему» воображению, утверждают, что, если бы мы не услышали столь мрачные истории в ранние впечатлительные годы, то в последующих годах у нас было бы меньше патологий и больше рациональности. Моя практика скорее показывает, что, чем более структурирована и опытна имагинатив- ная сторона личности, тем меньшую угрозу представляет иррациональное, тем меньше необходимости в вытеснении и, следовательно, тем меньше патология может проявиться в буквальных, повседневных событиях. Другими словами, через истории мы понимаем символическое значение патологических образов, так что эти образы и темы с меньшей вероятностью будут рассматриваться натуралистически, с клиническим буквализмом, как признаки болезни. Вместо этого такие образы обретают своё место внутри истории. Они принадлежат мифам, легендам и сказкам, где, как и во снах, появляются всевозможные странные фигуры и извращенные формы поведения. В конце концов, «величайшая история, когда-либо рассказанная», как некоторые называют Пасху, изобилует ужасными образами с большим количеством па- тологизированных деталей.
Джеймс Хиллман - Брошенный ребенок
М.: Касталия, 2024. — 286 с.
ISBN 978-5-521-24284-9
Джеймс Хиллман - Брошенный ребенок - Содержание
I. Немного об историях
II. Брошенный ребёнок
Субъективность
Что такое ребенок?
Заброшенность во сне
Заброшенность в браке
Крещение ребенка
Регрессия, подавление
Призывая ребенка
Возвращение ребенка
Фантазия о независимости
Фантазия роста
Статичный ребенок
Фантазия причины
Фантазия творчества
Фантазия будущности
Материнство и вскармливание
Мертвый ребенок
Ребячество — детскость
Вынашивание ребенка
Источники
III. Потос: ностальгия puer eternus
IV. Предательство
V. Раскол как разные взгляды
Размышления
Вывод
VI. Три вида неудачи и анализ
I. Неудача в анализе
II. Неудачный анализ
III. Неудача как анализ
VII. Архетипическая модель торможения в мастурбации
VIII. О психологии и парапсихологии
Психологическая рефлексия
Проблемы и фантазии
Фантазии парапсихологии
Выводы
IX. Почему психология «Архетипическая»?
Пост-Постскриптум
X. Плотин, Фичино и Вико как предшественники архетипической психологии
Вывод
XI. Архетипическая теория К. Г. Юнга
Идея и природа личности
Личность в ее контексте
Структура личности
Индивидуальность в терапии
Источники
XII. Методологические вопросы в исследовании сновидений
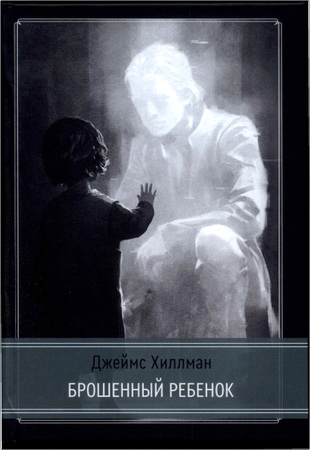
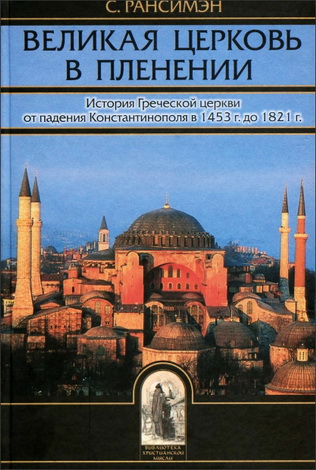
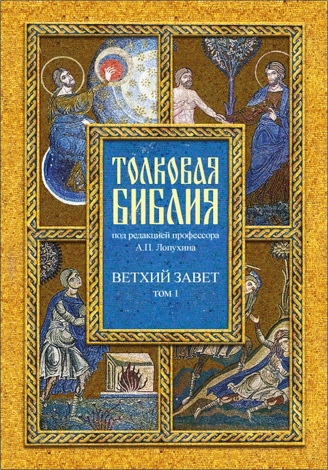

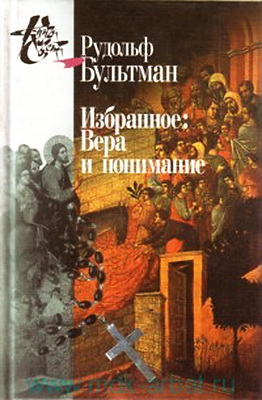
Комментарии
Пока нет комментариев. Будьте первым!