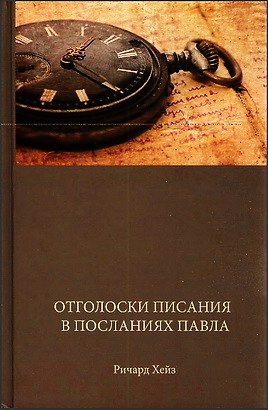
Майоров - Формирование средневековой философии
Деление истории на античную, средневековую и новую давно уже стало общепринятым. Однако применение такого рода периодизации к истории философии и истории культуры в целом вызывает серьезные трудности. Прежде всего встает проблема ее универсальной применимости в пространственно-географическом смысле. Можно ли говорить, например, об античности или средневековье по отношению к индийской, китайской, арабской или же русской философии и культуре?
Или же говорить так — значит оказаться в плену у давно устаревшего европоцентризма? Другая проблема: если ограничить область приложения данной периодизации только культурной и идеологической историей Западной Европы, можно ли сколько-нибудь точно определить хронологические рамки каждого из периодов? Каким моментам следует заканчивать историю античной философии и о какого начинать историю философии средневековой?
На чем останавливается средневековая философия и с чего начинает новая? Ответить на эти вопросы невозможно без уяснения того, какой смысл мы вкладываем в понятие «средневековая философия». Разумеется, не хронология будет определять этот смысл, а, наоборот, установленный нами смысл определит хронологию. Рассмотрение средневековой философии просто как философии определенного временного отрезка — средних веков потребовало бы от нас предварительного уточнения самого термина «средние века», что является задачей весьма непростой и до сих пор не вполне разрешенной.
Недостатком большинства современных исследований по средневековой философии оказывается как раз то, что они либо связывают ее начало с какой-нибудь датой политической истории (с датой падения Западной империи — 476 г.; с датой коронации Карла Великого — 800 г. и т. п.) , либо вовсе опускают проблему ее начала, приурочивая ее возникновение к какому-нибудь из философов, например к Августину, или же делая ее фактически простым продолжением философии античной.
Более оправдан, на наш взгляд, такой подход к средневековой философии, когда с этим термином связывается прежде всего исторически своеобразный способ философствования характерный для Европы и Ближнего Востока эпохи феодализма, однако возникший еще задолго до утверждения классического феодализма и сошедший с исторической сцены много раньше, чем окончательно сошел с нее европейский феодализм. Своеобразием указанного способа философствования была его сопряженность с религиозной идеологией, основанной на принципах откровения и монотеизма, т. е. на принципах, которые были общими для иудаизма,
христианства и мусульманства, но по существу чуждыми античному религиозно-мифологическому мировоззрению. Эта фундаментальная зависимость от религиозной идеологии не означала для философии полное ее растворение всегда и везде в религиозном сознании, но все же неизменно на протяжении всего периода определяла и специфику философских проблем, и выбор способов их разрешения. Какова бы ни была позиция средневекового философа, она всегда отмечена глубокой «озабоченностью» религией и теологией, будь то озабоченность тем, как поставить философию на службу религии, свойственная раннему средневековью,
или же озабоченность тем, как, сохраняя лояльность религии, освободить философию из-под теологической опеки, присущая средневековью позднему. Исторически обусловленное сожительство философии и теологии, иногда довольно мирное иногда переходящее в открытую конфронтацию (например, в случае с Веренгарием, Абеляром или Сыгером Брабантским), но всегда неравноправное и почти всегда вассальное, придало философскому самосознанию средневековья неповторимый колорит, по которому его легко идентифицировать и отличить от философского самосознания античности или Нового времени.
Теологическая идея выполняла для средневекового философа ту же регулятивную функцию, какую для античного выполняла идея эстетико-космологическая, а для философа Нового времени — идея научного знания. Отсюда ясно, каковы должны быть хронологические рамки средневековой философии. Ее историю нужно начинать с того момента, когда философия впервые сознательно ставит себя на службу религии и теологии откровения, и заканчивать тогда, когда союз между философией и богооткровенной теологией можно считать в основном распавшимся.
Но первые серьезные попытки использовать философию для целей религии откровения принадлежат Филону Александрийскому и христианским апологетам, а последние удары по философско-теологическому альянсу были нанесены в номиналистическо-сенсуалистической школе Оккама, где окончательно утвер- дилась идеологически подрывная для средневековья теория «двух истин».
Геннадий Майоров - Формирование средневековой философии - Латинская патристика
Издательство «Мысль» — 431с.
Москва — 1979
Геннадий Майоров - Формирование средневековой философии - Латинская патристика - Содержание
-
Введение
- Понятие и проблема средневековой философии
- Начальная стадия: I-IV ВВ
Глава первая
- Истоки
- 1. Предпосылки
- 2. Scripture Sacra
- 3. Exegesis
Глава вторая
- Грекоязычная апологетика
- 1. Юстин и Татиан
- 2. Афинагор и Теофил
- 3. Ириней и Ипполит
Глава третья
- Начало христианской философской спекуляции: Климент и Ориген
Глава четвертая
- Латинская апологетика
- 1. Минуций и Тертуллиан
- 2. Арнобий и Лактанций
Глава пятая
- Начало классической патристики
- 1. Христианская спекуляция и неоплатонизм: каппадокийцы
- 2. Иларий и Викторин
- 3. Иероним и Амвросий
Формирование образца: Аврелий Августин
Глава первая
- Сомнение и вера
- 1. Августин и греческая философия
- 2. Августин и путь веры
Глава вторая -
- Истина и знание
- 1. Достоверность
- 2. Чувственность
- 3. Разум
Глава третья
- Мир и человек
- 1. Бытие
- 2. Время
- 3. Космос
- 4. Человек
- 5. Благо
- 6. История
Деформация образца: зарождение схоластики
Глава первая
- Круг чтения
Глава вторая
- Универсум рассуждения: Северин Боэций
- 1. Философия
- 2. Логика
- 3. Музыка
Глава третья
- Форма культуры: Флавий Кассиодор
- Послесловие
- Примечания
- Список сокращений
- Именной указатель
Геннадий Майоров - Формирование средневековой философии - Латинская патристика - Достоверность
Все учение Августина об истине и познании имеет ярко выраженную аксиологическую и этическую окраску. Уже в первом дошедшем до нас его произведении — «Против академиков» — неоднократно подчеркивается, что последней целью гносеологических изысканий является определение условий прочного человеческого счастья, или блаженства, и что первейшим таким условием служит знание истины, так что истина «должна быть предметом наших исследований прежде всех других вещей, если мы желаем быть блаженными» (Contr. Acad. I 9, cf. Ill 1). Та же идея содержится и в других сочинениях этого цикла: «О блаженной жизни» (De vit. beat. 2), «О порядке» (De ord. I 8) и др. Отождествление истины и блага, дела познания и дела нравственности, воспринятое Августином от античности, придало его гносеологическим исследованиям особую значимость и сделало его чрезвычайно чувствительным к вопросу о достижимости достоверного знания. В этом отношении очень показательно, что свою первую философскую работу Августин посвящает как раз критике скептицизма и защите принципа познаваемости истины.
Здесь, в «Contra Academicos», Августин старается показать не только теоретическую несостоятельность основоположений метафизического скептицизма, но и весь их нравственный вред и практическую бесполезность (Contr. Acad. Ill 16). Хотя в жестоком противоборстве философских партий позиция скептиков, сомневающихся во всем и ни на чем не настаивающих, кажется на первый взгляд наиболее благоразумной и наименее претенциозной (Ibid. Ill 7), на самом же деле скептицизм, принятый всерьез, оказывается еще более коварным, чем любой догматизм, ибо парализует само желание искать истину, закрывая двери в философию, подтачивает основы морали и общественной жизни. Поэтому, пишет Августин, «для меня было бы достаточно любым способом перешагнуть эту громаду, которая встает на пути входящих в философию и, запутывая во мраке своих тупиков, грозит, что и вся философия такова, и не оставляет никакой надежды найти в ней сколько-нибудь света» (Ibid. Ill 7). В первых двух книгах указанной работы Августин оспаривает мнение академиков, что удел мудрого не обладание, но только исследование истины и что мудрый руководствуется в своей жизни не истинным (которого он знать не может), а только вероятным, или истиноподобным (verisimile). По поводу скептической «вероятности-истиноподобия» Августин делает ряд очень метких и очень язвительных замечаний.
Следовать истиноподобному, не зная истинного, по его мнению, все равно что говорить о сыне, что он похож на отца, не зная отца (Ibid. II 8). Истиноподобное, вероятное,—это подобное истине, достоверному, и существует только в отношении к нему. Утверждать же, что существует истиноподобное, а истины знать нельзя,— все равно что утверждать: «Хотя истины мы и не знаем, но то, что мы видим, не похоже на то, чего мы не знаем» (Ibid.). Аналогичны возражения против достаточности одного только исследования истины: искать истину, будучи заранее убежденным, что ее нельзя найти,— занятие совершенно нелепое (Ibid. II 9).
Несмотря на известную упрощенность в представлении позиции академиков, сознаваемую и самим Августином (Ibid.), эти аргументы не были лишены основания. Но они относились скорее к абстрактному скептицизму, чем к конкретному учению скептиков-академиков (скептицизм Пиррона Августину был неизвестен), где «вероятное» (probabile) ставилось в отношение не столько к «истинному» (verum), сколько к практически оправданному. Поэтому в дальнейшем Августин уточняет позицию академиков, подчеркивая ее феноменализм: истийоподобное есть то, что может побуждать нас к действию «без согласия» (sine assensione), то, что не само по себе подобно истине, а только кажется нам таковым (Ibid. II 11). Аргументы против феноменализма Августин помещает в третьей книге. Одни из них имеют формальный, логический характер; другие — содержательный, гносеологический. Их задача опровергнуть выдвинутую в академии Аркесилая и Карнеада идею акаталенсии— непостижимости, неуловимости объективной истины в силу принципиальной невозможности получить достаточные признаки отличения истинного от ложного (Acad, prior.3). Как известно, соответствующую теорию академики противопоставляли, с одной стороны, стойческой идее каталепсии, или, точнее, «каталептической фантазии» (phantasia kataleptike) — идее постигающего, «схватывающего» представления, которое содержит в себе самоочевидные признаки своей истинности, позволяющие непосредственно отличить его от представления ложного; с другой стороны, они противопоставили ее эпикурейскому сенсуализму. Критикуя скептиков, Августин блокируется и со стоиками, и с эпикурейцами, мнения которых вое- производит по диалогам Цицерона. «Формальные» аргументы, предложенные Августином, сводятся в большинстве своем к следующему: нельзя утверждать, что знание истины невозможно, не впадая в противоречие с самим собой.
Ибо если такое утверждение было бы истинным, то оно тем самым оказалось бы ложным; если бы было ложным, то истинным стало бы противоположное утверждение, т. е. опять-таки что знание истины возможно (cf. Contr. Acad. Ill 9). Много столетий спустя Б. Рассел создаст для разрешения подобных парадоксов «теорию типов». Августин не ведал о теории типов, но, как мы увидим и в дальнейшем, был очень чувствителен к парадоксам, которые, по его мнению, служат признаками неблагополучия исходных посылок.
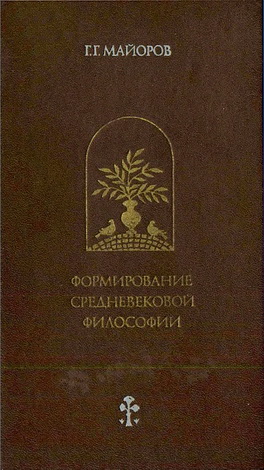




Комментарии
Пока нет комментариев. Будьте первым!