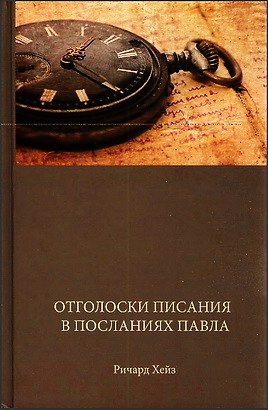
Марсель - Присутствие и бессмертие
Почему одна из последних книг французского философа называется «Присутствие и бессмертие» (1959)? Как он связывает эти понятия? Как он их понимает? Первый «ярус» контекстуального поля для их понимания нами уже дан. Остается только вникнуть, самым однако сжатым образом, в эти нами еще не произносившиеся слова – «присутствие» (présence) и «бессмертие» (immortalité). Экзистенциально и биографически начать их пояснение нужно со слова «бессмертие».
Гуляя со своей тетей‑мачехой в парижском парке Монсо, маленький Габриэль однажды спросил у нее: «А где находятся умершие?» Его тетя, воспитанная в протестантско‑либеральном духе, но исповедующая агностицизм, ответила малышу, что этого нам знать не дано. Тогда мальчик с какой‑то пророчески прозвучавшей силой сказал: «Когда я вырасту, я обязательно узнаю об этом». Ему было около четырех лет, когда он потерял свою мать. Эту утрату он всегда признавал не только самым жизненно важным для него событием, но и самым значимым фактом в его биографии мыслителя и драматурга.
Возникшая в нем «тайная полярность между видимым и невидимым» ведет свое происхождение оттуда, с этих детских лет. И надо прямо сказать, что Габриэль Марсель уже тогда занял сторону Невидимого в его споре с Видимым. Конечно, это чисто экзистенциальное решение еще не имело тогда никаких философских контуров, которые стали возникать сравнительно поздно. Жизнь складывалась у воспитанника парижского лицея, а потом студента философского факультета Сорбонны так, что он стал не столько книжником‑домоседом, как того требовали от него его близкие и французская педагогическая машина, сколько страстным путешественником, любителем дальних прогулок по неведомым интересным местам, тем, кого во Франции называют radonneur, то есть неутомимым ходоком, или, как бы сейчас сказали, хайкером‑фанатом.
Но – и это важно подчеркнуть – его любовь к пейзажам и новым странам, как и его любовь к музыке и театру, была исследовательской страстью. Марсель стремился подметить в видимом пейзаже приметы невидимого, скрытые за видимостью. В своих путешествиях он развивал хватку настоящего мыслителя, учась за «корой вещества» прозревать «нетленную порфиру» неведомого, тайного. С таким багажом он и пришел в собственно философию, которая в те годы начала ХХ века была по преимуществу неокантианским идеализмом. Образцовым представителем рационалистической философии был во Франции Леон Брюнсвик, с которым жизнь и деятельность Марселя потом не раз знаменательным образом пересекалась.
Так, например, во время Декартовского конгресса по философии (Париж, 1937) Леон Брюнсвик, комментируя выступление Марселя, заметил, что смерть Габриэля Марселя занимает Габриэля Марселя куда больше, чем смерть Леона Брюнсвика занимает Леона Брюнсвика. «Я ему ответил на это, – говорит Марсель, – что он ошибочно истолковал поднятый мною вопрос и что достойным внимания каждого из нас вопросом является исключительно вопрос о смерти того существа, которое мы любим».
Присутствие и бессмертие. Избранные работы – Габриэль Марсель
Институт философии, теологии и истории св. Фомы; Москва; 2007
ISBN 978‑5‑94242‑043‑7
Присутствие и бессмертие – Габриэль Марсель – Содержание
I. Присутствие и бессмертие
- Миф об Орфее и Эвридике – в самой сердцевине моего существования
- Метафизический дневник (1938–1943)
- Присутствие и бессмертие
II. Работы разных лет
- На пути – к какому пробуждению?
- Размышление о вере
- Кьеркегор в моем мышлении
- Философское завещание
Присутствие и бессмертие – Габриэль Марсель – Размышление о вере
Прежде всего, я хотел бы уточнить не саму точку зрения, не занимаемую мной позицию, что мне представляется излишним, а внутреннюю установку, которую я принимаю, и тот род присоединения к ней, которого я хотел бы добиться от моих слушателей.
На самом деле вовсе не как католик я хотел бы высказаться, но, скорее, как христианский философ. Уточним при этом следующий момент: случилось так, что я поздно пришел к христианской вере, проделав предварительно сложный, извилистый путь; я не жалею об этом и по многим причинам, но прежде всего потому, что во мне живо воспоминание об этом поиске, позволяющее мне чувствовать симпатию особого рода ко всем тем, кто сам находится в подобном пути и преодолевает его трудности, аналогичные тем, которые преодолевал я сам.
Метафора пути является неизбежной, но в некоторых отношениях грубой и даже скандально неловкой. Ведь ни в каком смысле я не могу рассматривать себя в качестве прибывшего (arrivé)1. Я убежден, что вижу более ясно. Но само это слово («убеждение») слишком слабое, чересчур интеллектуализированное. Вот и все. И более точно я бы сказал, что некоторые стороны меня самого, причем самые независимые, самые свободные, вырываются к свету, но при этом существуют и другие, еще не освещенные этим, почти горизонтально светящим, солнцем зари или, если употребить выражение Клоделя2, еще не евангелизированные. И именно эти стороны могут осознавать свою братскую близость к душам, находящимся в трудном пути или еще только пытающимся его найти. Но следует идти еще дальше: я полагаю, что на самом деле никто, даже самый просвещенный, самый приближенный к святости человек, никогда не придет прежде, чем другие, все остальные, устремятся к нему. И здесь раскрывается фундаментальная истина, относящаяся не только к религиозной сфере, но и к философии, хотя, вообще говоря, философы ее не признают по тем причинам, которые в настоящий момент я не могу рассматривать.
Сказанное позволяет мне уточнить ту ориентацию мысли, которую я хотел бы сформулировать. Для меня речь идет о том, чтобы поразмышлять перед теми, кто следует за мной, и тем самым, быть может, протянуть некоторым из них руку в том деле ночного восхождения, выступающим для нас всех нашей судьбой, по отношению к которому, несмотря на обманчивую видимость, мы никогда не одиноки. Вера в одиночество – вот первая иллюзия, которую нужно победить, а в некоторых случаях – первое искушение, надлежащее преодолеть. Само собой разумеется, я, прежде всего, хочу обратиться к наиболее обездоленным, к тем, кто отчаялся достигнуть какой бы то ни было вершины, и более того, к тем, кто пришли к убеждению, что никакой вершины и нет и поэтому нет и восхождения, и что вся эта авантюра сводится я уж и не знаю к какому топтанию в тумане, обретающему свой конец лишь со смертью в полном угашении, завершающем непостижимую тщету существования.
Таким образом, я хотел бы прежде всего поставить себя в положение этих заблудившихся путников, утративших веру в цель – я имею в виду цель не социальную, а метафизическую, – в саму возможность сообщить смысл слову «судьба». Таких блуждающих душ бесчисленное множество и, разумеется, не надо впадать в иллюзию присоединить их к себе посредством объяснений или увещеваний. Тем не менее, я верю в поддерживающую силу определенного типа размышления. В той трагической ситуации, в которой сегодня бьется мир, определенного рода конкретная метафизика3, будучи тесно связанной с самыми глубокими сторонами личного опыта человека, в большей степени, чем искусство или восторженность, может сыграть определяющую роль для многих душ; и поэтому я бы хотел в течение предоставленного мне краткого времени попытаться наметить возможные пути, по которым, быть может, некоторые не откажутся последовать.
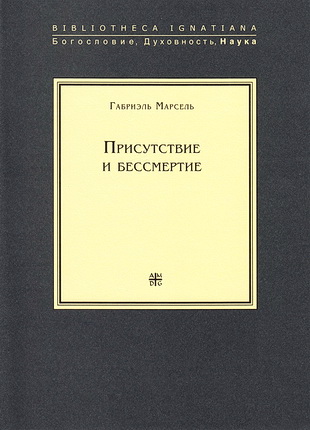
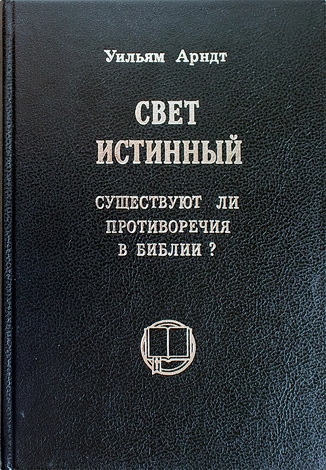
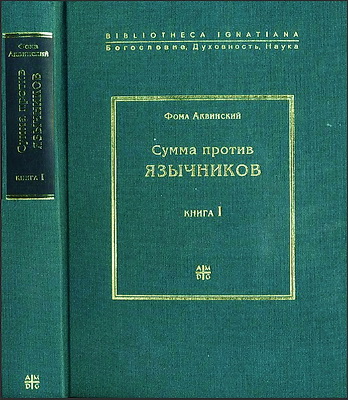

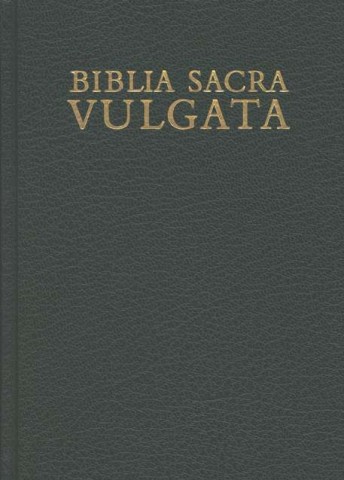
Комментарии
Пока нет комментариев. Будьте первым!