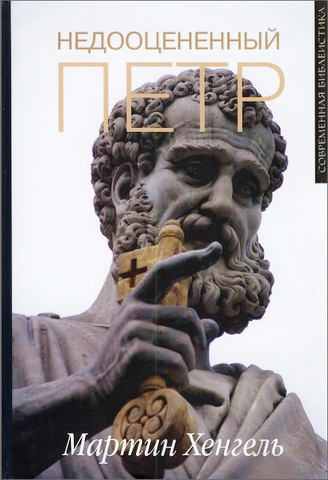
Федотов - Собрание сочинений - 2 - Статьи 1920-30-х
Современное, послевоенное христианство в отношении к социальной проблеме уже совсем не то, чем оно было до войны, и напряжение социального идеализма христианских церквей, которое мы наблюдаем сейчас, совсем не того масштаба и веса, что в прошлом столетии. Для X IX века, как и для XV III и XVII, можно сказать без большого преувеличения, что Церковь, и западная и восточная, в области социальных отношений стоит на почве существующего строя, стремясь оправдать его, особенно на протестантском Западе, хотя бы ценой жестокой измены евангельской правде.
Оправдание капитализма в Англии или протестантской Германии в середине X IX в. подчас при-нимало формы поистине возмутительные. В лучшем случае было игнорирование той социальной задачи христианской любви, которой жило средневековое христианство. Теперь на Западе почти нельзя встретить принципиального обоснования и защиты капиталистической системы, как религиозно оправданных, на почве христианской этики. В этом смысле что-то безвозвратно ушло в прошлое. Мы, конечно, знаем, что отдельные идеалисты-христиане, апостолы социальной правды, появляются и в X IX веке, но удельный вес этих течений в общих рамках мира был невелик. Можно было бы написать историю Европы в X IX в., не упомянув о социальном католическом и протестантском движениях. Для истории современных социальных кризисов это было бы невозможно.
Когда произошла эта перемена? Я думаю, что в известной степени корни ее выходят к энциклике папы Льва X III. В 1891 г. католическая Ц ерковь впервые после многовекового молчания сказала свое слово о социальной неправде. Это слово Льва X III— энциклика Rerum Novarum, было более чем скромным. Оно, собственно, было обращено скорее против революционного социализма, чем против капитализма. Но в нем были признаны римской Церковью права работника как человека и христианина, было поставлено перед христианством требование защиты трудящихся и была осуждена явная эксплуатация — с точки зрения средневекового христианства, которое умело уважать трудящихся.
Федотов Георгий - Собрание сочинений в 12 т. Т. 2: Статьи 1920-30-х гг. из журналов «Путь», «Православная мысль» и «Вестник РХСД»
Сост., примеч. С. С. Бычков
М.: Мартис, 1998. 380 с.
ISBN 5-7248-0037-3
Федотов Георгий - Собрание сочинений в 12 т. Т. 2: Статьи 1920-30-х гг. из журналов «Путь», «Православная мысль» и «Вестник РХСД» - Содержание
- О Русской Церкви
- Об антихристовом добре
- О стиле в проповеди
- Религиозный путь Пеги
- Зарубежная церковная смута
- Irenikon
- Св. Геновефа и Симеон Столпник
- Carmen saeculare
- Св. Мартин Турский — подвижник аскезы
- Агиология
- Изучение России
- Национальное и вселенское
- Третий Клермон
- Будет ли существовать Россия?
- Хай -Ли
- Англо-русская конференция в Хай-Ли
- Православный нигилизм или православная культура?
- Памяти Г. Н. Трубецкого
- К вопросу о положении Русской Церкви
- «Житие и терпение» св. Авраамия Смоленского
- Неудачная защита
- Русская Церковь или духовное сословие?
- Христианство перед лицом современной социальной действительности
- Православие и историческая критика
- О Св. Духе в природе и культуре
- Irenikon
- Ессе homo (о некоторых гонимых «измах»)
- Оксфорд
- Славянский или русский язык в богослужении
- Древо на камне
- Предшественник Хомякова
- В защиту этики
- Pierre Pascal. Awakum et les dйbuts du rascol
- Сергиевские листки
ПРИМЕЧАНИЯ
УКАЗАТЕЛЬ ИМЁН
Федотов Георгий - Собрание сочинений в 12 т. Т. 2: Статьи 1920-30-х гг. из журналов «Путь», «Православная мысль» и «Вестник РХСД» - О Русской Церкви - Письмо из России
Страшно трудно писать о России и особенно о Церкви: так случайны и отрывочны сейчас все наши наблюдения, так ограничен личный опыт, особенно для человека, стоящего вдали от руководящих церковных кругов. Если и решаюсь на это, то в убеждении, что за рубежом ощущается огромная потребность знать правду о родине, и как ни трудно дается эта правда, все же есть немало вещей — простых фактов, — ускользающих от далекого взора, которые несомненны для всякого, живущего в России. Нелегко лишь провести в изложении строгую грань между этим, для всех нас несомненным, и личными впечатлениями, оценками, гаданиями, при всем желании от них отрешиться. Внешний режим, в котором живет сейчас Церковь, может быть назван временем выдыхающегося гонения — переходное время, как все сейчас в России. Невыносимо тяжела моральная атмосфера в стране, выходящей из революционного циклона. Улегшиеся страсти классовой ненависти сменились острой жаждой наслаждений, не стесняемой никакой религиозной или общественной уздой. Хищения и казнокрадство в правящей среде, ренегатство среди интеллигенции и разврат среди молодежи, грубый житейский материализм народных масс, широкий отпад от Церкви, от Бога, от самой идеи религиозности, — вот печать среды, по новому языческой, которой противостоит сжавшаяся, но окрепшая в гонениях Церковь. Представляя себе Церковь на фоне национальной жизни, никак нельзя забывать о происшедшем мучительном разрыве. Народная жизнь (о национальной мы пока говорить не в праве) не освящается Церковью и все еще отталкивает ее.
Антихристианская власть, по-видимому, отказалась от мысли сломить Церковь грубым насилием. В этой борьбе государство, несомненно, понесло тяжелое моральное поражение. Храмы не опустели, общины верующих сплотились теснее, чем когда-либо, вокруг своих пастырей. Духовенство дало из своей среды немало мучеников и исповедников, которые кровью и подвигом своим укрепили церковное единство. Церковь оказалась сильнее гонителей, и им приходится, в борьбе за политическое существование, делать уступки тем низам, которые еще дорожат Церковью и не желают от нее отказаться. Сейчас уже не расстреливают священников и мало стесняют культ. О полной свободе говорить, конечно, не приходится. По-прежнему запрещают крестные ходы и время от времени, по мнимому требованию «трудящихся», кое-где закрывают храмы. В те дни, когда административная ссылка приняла массовый характер, и чуть не ежедневно поезда увозят в Сибирь, в Соловки сотни студентов, солдат, купцов, интеллигентов, даже марксистов и сионистов, было бы странно, если бы не ссылали священников. Но эти, часто ничем не оправдываемые, акты насилия носят личный характер: в основе обычно — донос какого-нибудь живоцерковца-конкурента. ГПУ явно предоставляет в репрессиях инициативу обновленцам. Уже ссыльные епископы и священники, отбыв срок наказания, возвращаются в свои епархии и приходы, укрепляя колеблющихся, собирая верных, внося с собой дух мужественного исповедничества.
Коммунистическая власть продолжает считать борьбу с Богом одной из главных своих задач; но она предпочитает убивать дух, а не плоть, — в школе, в литературе (специальное издательство «Атеист», журнал «Безбожник»), в театре — сильная своей монополией культуры и необычайно развитым аппаратом пропаганды. Кощунства по-прежнему являются признаком благонадежности, однако публичные бесчинства комсомольцев признаны вредными, и власть старается обуздать разошедшегося хулигана. Теперь не поощряют разрушения и осквернения могил на кладбищах (в Петербурге пришлось даже восстанавливать разбитые памятники литераторов на Волковом кладбище), и Бухарин должен был во всеуслышание объявить: «Не всякий, кто гадит под окном у деревенского попа, ведет антирелигиозную пропаганду». Политика «лицом к деревне» заставляет власть даже отказаться от финансовых притеснений сельского, особенно низшего, духовенства.
Церковно-обновленческая «реформация» перестала остро мучить Церковь. Ее вождям не удалось увлечь ни массы, ни идейных сторонников реформ. С одной стороны, они натолкнулись на обрядовый консерватизм, с другой — на христианскую совесть, которая не прощает им пролитой крови и союза с безбожием. В их руках теперь уже не много храмов — хотя почти все соборы в столицах и провинции, — и эти храмы пусты. С ними честолюбивая или запуганная часть духовенства, да немногие бытовые прихожане, которые по лености или привязанности к своему приходу, идут в ближайшую церковь и отказываются вникать в споры «попов», — лишь бы служили правильно, по старому... Ну и служат! Служат иногда по двум стилям, повторяя праздники, чтобы угодить на все вкусы. Если послушать проповеди их заурядных батюшек, то в них почти никогда не встретишь революционного пафоса (как у Введенского и других вождей). Преобладают наставления о покорности власти, «которая всегда от Бога», да жалобы на нетерпимость своих противников. Словом, здесь явно слышится дух не революции, а совсем иной — ветхий и затхлый дух синодальноконсисторской беспринципности. Одним из положительных последствий раскола было очищение Церкви от этих слабых и корыстных элементов духовенства. Но ГПУ пользуется фактом церковного раскола. Он компрометирует Церковь в чуждых ей кругах и дает власти механизм для внутреннего наблюдения и давления на православную Церковь.
В одном отношении советская власть может быть спокойна, и, кажется, действительно успокоилась. Ей нечего бояться заговоров духовенства и политической агитации в храмах. Думается, что не простая осторожность и тактические соображения объясняют эту подлинную «аполитичность» Русской Церкви в настоящий момент. Ее внимание, ее главные силы направлены на духовную жизнь. На известной аскетической и мистической высоте, достигнутой и выстраданной в эти годы, вопросы политического строя, даже исторических судеб России перестают волновать глубоко. Здесь готовы предоставить Провидению пути спасения родины, тем более, что революция и произведенные ею социальные перевороты в русской жизни оказались слишком сложными, чтобы к ним можно было отнестись с простым отрицанием или приятием. Среди верных Церкви масс есть немало людей, боровшихся в гражданской войне в рядах красной армии или сочувствовавших ей. И «белые» и «красные» встречаются в церкви в общей молитве и у евхаристической чаши. Церковь мудро избегает растравлять еще свежие раны политических страстей и предлагает пищу вечную, не на сегодняшний только общественный день.
Но вытекающая из этого аполитизма «лояльность» Церкви по отношению к советской власти, разумеется, не означает ее нейтральности по отношению к коммунистической идее. Борьба с коммунистической идеологией и этикой (не с политикой и экономией) ведется повсеместно и неослабно, представляя обратную сторону защиты христианства. Только острие своего духовного оружия проповедник направляет не на политическую партию, царящую в России, а на самый дух творимой в России культуры. И, конечно, дух этот, сам по себе, и шире и глубже своего русского коммунистического выявления. Итак, Церковь выходит победительницей из эпохи гонения и раскола. Это бесспорно: но как учесть и оценить ее завоевания? Растет ли Церковь числом, укрепляясь и очищаясь качественно? Вот вопросы, на которые легче всего ответить наблюдателям в России.
Конечно, входя в храм, чувствуешь, что это всенародная святыня. Нигде в России, разделенной классовыми перегородками, исключительно суровыми, нельзя почувствовать, кроме как в Церкви, освобождающей радости единения, общения — хотя бы кратковременного — многих, разных, далеких друг другу людей. Но вид молящейся толпы уже не тот, как десять лет тому назад. Уже «сермяжная», простонародная Русь не заполняет храма. Сильно заметно — в городе — преобладание интеллигенции. Разная эта интеллигенция, и разными путями пришла она в Церковь. Есть, разумеется, среди нее люди, нашедшие в Церкви утешение в бесчисленных утратах, есть люди, ищущие здесь опоры для оскорбленного национального чувства. Но есть и другие — бодрые и молодые, которые принесли сюда не горечь и боль, а любовь и надежду, нерастраченный порывного энтузиазма. Немало священников и епископов выходят теперь из светских кругов. Было бы неверно сказать, что интеллигенция преобладает — численно, но она заметно окрашивает церковную среду. На окраинах в церковь ходит много рабочих (сравнительно мало солдат), всюду заметен слой торговых людей, растущих вместе с хозяйственным возрождением страны и наиболее сохраняющих как внешний облик старой Руси, так и консервативные традиции.
Много ли верующих осталось в России? Да, много. Но составляют ли они большинство или меньшинство в стране, трудно сказать. Следует ли остерегаться ошибок в ту или иную сторону? Точных цифр здесь быть не может, судим только по посещаемости храмов. Они полны, но не переполнены. Считаясь с тем, что многие храмы, занятые обновленцами, пустуют, ясно, что в церковь ходит меньше людей, чем до революции. И, пожалуй, это число не растет заметно. Страшные годы 1917-1918 были для многих временем обращения к Церкви. С тех пор обращения не часты. Оставшаяся вне Церкви интеллигенция теперь не увлекается к ней общим потоком; она зарылась в старых окопах позитивизма или поглощена погоней за материальными благами. Среди городской бедноты с успехом работают баптисты и разные «братцы», соблазняя простотой моральной проповеди и часто строгостью личной жизни. Замечательная противоположность культурным слоям, где толстовство и гнозис (в виде разных толков теософии) и недавнее увлечение католичеством растаяли почти бесследно, и где православная Церковь вобрала в себя, по-видимому, все религиозно живые и верные христианству души. Одно утешительно: знать, что среди всей многолюдной толпы, наполняющей храм, «не встретишь мертвого листика», по слову Тютчева: нет никого, кто пришел бы сюда из приличия или по долгу службы («долг службы» многих еще удерживает вне Церкви — как в армии), а молятся здесь, как, может быть, никогда прежде не молились.
Иное видишь в деревне: говоря о деревне, особенно чувствуешь ограниченность своих наблюдений. Ведь все они относятся к местностям поблизости железных дорог, связанных с городской культурой. Несомненно, есть в России медвежьи углы, где жизнь течет так, как она текла века, которых революция не коснулась. Но много ли осталось таких углов, при грандиозности переворота, поднявшего самую толпу народных низов? Итак, в доступной нашему наблюдению деревне поражаешься пустотой храмов. В церковь ходят почти одни женщины и старики. Молодежь усвоила уроки атеизма. Среднее поколение, пережившее войну, исколесившее всю Россию, побывавшее нередко в Европе в плену, — вынесло изрядную долю скептицизма и, во всяком случае, равнодушие к религии. Деревня сейчас только переживает эпоху «просвещения», без особого, впрочем, энтузиазма. Мужицкий здравый смысл инстинктивно не доверяет теориям, за которые хватается, как за откровение, городской рабочий, но они все же разлагают основы его миросозерцания. У крестьянина остается лишь хозяйственный смысл жизни, и деревня сейчас с упорством и жадностью зарывается в землю, утратив ощущение ее таинственного материнства и за землей забывая небо. В скептической неуверенности и в сознательном консерватизме своем деревня дорожит церковью как обрядовым институтом. Редко (почти никогда) девушка выйдет замуж без венчания, и этому деревенскому предрассудку должны подчиняться и коммунисты. В церкви крестят, отпевают, вокруг нее справляют шумно и праздно традиционные праздники. Глыбы этнографической обрядности, почти языческой — а за последние годы на севере язычество, т. е. двоеверие, кажется переживает своеобразное возрождение — уживаются с новым строем идей, нахлынувших в деревню: с коммунистической газетой, избой-читальней, спектаклями и революционными песнями молодежи.
Сельское духовенство, в общем, не пережило обновляющего духа гонений. Робкое и забитое, не очень возвышаясь над средой, в которой живет, оно не пытается влиять на нее, объединить оставшихся верными Церкви людей. Материально оно лишилось части своих доходов, но деревня все же обеспечивает его, не в пример светским учителям. Когда одно время школы были переведены на местные средства, они стали закрываться одна за другой. Уже собор 1917-1918 г. значительно усилил в Церкви влияние мирян. Большевистский закон об отделении Церкви от государства отдал храмы в руки приходских общин, представляемых выборной «двадцаткой». Этот орган несет всецело заботы о материальном содержании храма и ответствен за все, совершающееся в нем, он приглашает и увольняет своих священнослужителей. И это не остается легальной фикцией. Епископская власть, утверждая выбор общины, фактически сейчас почти никогда не оспаривает его. Священник сохраняет свое влияние в приходе исключительно силою своего морального и религиозного авторитета. В вопросах церковной политики, а также строя богослужения, влияние мирян часто оказывается преобладающим. От «двадцатки» зависит, отдать ли храм «живой» или патриаршей Церкви, взять крайнюю или умеренную тактическую линию. Заметим в скобках, что влияние мирян почти всегда оказывается консервативным, и священник, переходящий к «живцам» или «обновленцам», почти всегда вынужден добиваться от властей, под тем или иным предлогом, роспуска «двадцатки» и перевыборов ее. Но это влечет за собою обыкновенно развал прихода и опустение храма.
Нередко опорой священника в приходе являются братства и сестричества. Их назначение двоякое. Забота о храме, частая (иногда ночная) молитва, частое общее причащение — создают из братства религиозную общину, иногда живущую весьма напряженной духовной жизнью. Но нельзя не упомянуть здесь и о теневых сторонах братств; о преобладании в них личного начала, в лице священника, и о подчас нездоровой экзальтированности этих по преимуществу женских организаций. Во время раскола многие из братств слепо увлекались за своими священниками в живоцерковное движение, и это обстоятельство, кажется, охладило увлечение братствами.
За время заточения патриарха, ссылки епископов и видимого торжества «Живой церкви», в связи с отступничеством и шатанием многих пастырей, иерархическое начало в Церкви было поколеблено. Каждый храм жил своей жизнью, не надеясь на авторитет церковной власти, часто исполненный недоверия к ней. Верующие сплачивались вокруг немногих оставшихся твердыми священников, иногда уходивших в «катакомбы», или прислушивались к голосу «старцев». Следы этой приходской обособленности еще заметны. Границы епископской власти остаются неопределенными. Епископ исповедник, иерарх сильной воли и строгой жизни, может твердо править церковью и рассчитывать на послушание. Но, как общее правило, власть епископата теперь ослабела за счет возросшего влияния священства и мирян. Этому не противоречит всюду растущая под влиянием раскола потребность в авторитете и каноническом строе жизни. Духовный авторитет часто весит гораздо больше авторитета канонического. И в этом отношении наше время переходное. Многое придется пересматривать и перестраивать. Так, уже выяснились некоторые теневые стороны приходской демократии. Раздаются справедливые жалобы на то, что исключительное влияние мирян в приходе иногда стесняет независимость пастыря. В «двадцатке» как раз наиболее вески голоса материально зажиточной, но менее просвещенной, менее чуткой части общины. Увлекаясь внешним благолепием и экономическими успехами, она иногда не способна оценить моральную чистоту и духовную ревность пастыря.
Годы гонений для Русской Церкви были порой ослабления ее внешнего единства и спаянности. Фактически бывали времена, когда она никем не управлялась и не водилась, кроме Св. Духа, живущего в ней. В этом заключается, быть может, величайшее чудо ее спасения и ее неразрушимого внутреннего единства. Не нужно переоценивать, судя о России, значение тех или иных актов, исходящих даже из очень высоких иерархических сфер. Они приемлются и не приемлются, поскольку оказываются удовлетворяющими таинственно-скрытому сознанию. Патриарх был живым сердцем в России, на нем сосредоточивались любовь и молитвы всей Церкви, и отсюда текла в ней незримая благодатная сила. Но силы этой нельзя измерить и оценить по актам патриаршего управления. При отсутствии всякой свободы слова и затрудненности личного общения, акты эти вызывали разную оценку, смущали одних, оспаривались другими... Но никогда они не приводили к кризисам и не колебали уважения и любви к тому, на кого смотрели как на страдальца за всю Русскую Церковь. Заступником-молитвенником и вольной жертвой был патриарх для Руси — более чем вождем и руководителем ее, и то, что указанный им путь, при всех колебаниях и признанных ошибках, был путем спасения — в этом нельзя не видеть чудесного проявления благодатных сил, не оставивших Русскую Церковь.
Каковы же те духовные плоды, которые приносит видимо для всех — об иных судить не смею — Русская Церковь? Начну с наиболее бесспорного, бросающегося в глаза. Совершенно наглядно изумительное цветение культа, его ранее невиданная красота и строгость. Никогда не служили так торжественно и проникновенно, как ныне. И хотя тайна этой вновь явленной духовной красоты прежде всего в глубокой вере совершающего таинство священника, но новый дух захватил всех служителей храма, сделал ясным, впечатляющим каждое слово чтеца, каждый возглас диакона. Почти во всех — даже маленьких — церквах прекрасный хор, хотя здесь любители строгой церковной музыки могли бы часто найти много поводов к критике. Молящиеся с трудом покидают храм и любят долгие стояния, длящиеся нередко по пяти часов в большие праздники. Обновление культа, провозглашенное «Живой церковью», пошло по пути возвращения к уставу, оживления забытых культовых традиций. В поисках обогащения культа север заимствует кое-что от православной Украины. Так распространяются великопостные «пассии» и обнесения плащаницы Богоматери на всенощной под Успение. Делаются, хотя и с чрезвычайной осторожностью, опыты составления новых молитв, акафистов и чинов.
Но явно для всех живой смысл культа открывается в Евхаристии — за обрядом таинство, — и литургия, по внутреннему отношению к ней, для многих снова становится мистерией. Святая чаша никогда не выносится втуне: многие приступают к ней, и все соучаствуют в их радости. Говорят о «евхаристическом движении» в Русской Церкви, где теперь дает свой плод дело о. Иоанна Кронштадтского. Но еще нет единства в практическом осуществлении. Здесь поставлен огромной важности вопрос, и решается он каждым пастырем и каждым мирянином по-своему. Одни призывают причащаться часто, но требуют достойного приготовления, другие настаивают на причащении за каждой литургией. Есть верующие — немногие, конечно, — которые причащаются каждый день, другие еженедельно, чаще всего в большие праздники. Труднейший вопрос об исповеди, связанный с этим движением, решается различно. Некоторые практикуют общую исповедь, другие — весьма немногие — отделяя оба таинства, разрешают приступать к Евхаристии без исповеди. Большинство сохраняет исповедь обязательную и тайную. Так уже в этом центральном вопросе церковной жизни явствует большая свобода, ныне господствующая в ней и отсутствие внешней регламентации.
Из храма, из культа исходит ряд духовных токов, которые питают бытовую и домашнюю жизнь, — но эти личные и семейные плоды церковности с трудом поддаются учету. Видишь среди многих возрождение православного быта, видишь иной раз комнаты, превращенные в молельни, и квартиры — в обители. В шуме столиц, среди чудовищной демонстрации безбожия, теплятся очаги подвижничества. Домашняя молитва, нередко совместная, восполняет церковную. Известно, что по всей России кощунственно уничтожались общенародные святыни и монастыри. Но не всем, вероятно, известно, что это уничтожение не было ни последовательно, ни повсеместным. По-прежнему летами идут богомольцы пешком в обитель преп. Серафима или в Киев, ко дню Успения. Возникают иногда и новые центры паломничества, как в Подольской губернии, где явленное Распятие послужило к грандиозному движению богомольцев с крестами, водружаемыми вокруг святого места. Потребность в чуде, жажда видения небесных тайн и сейчас очень сильна во всех слоях церковного общества, особенно же остро проявилась она в годы гонений и страшных бедствий, постигших родину. Тогда часто приходилось слышать о видениях, пророчествах, чудесных знамениях. К тому времени относится полоса обновления икон и куполов, прошедшая по югу России, и явление в селе Коломенском под Москвою иконы Державной Божией Матери, символически восприявшей корону последнего русского царя.
Еще недавно хоронимое многими монашество воскресает с новой силой. Я уже говорил, что не все старые монастыри закрыты. Они существуют кое-где в виде трудовых коммун, с сильно сокращенным числом иноков, — даже в столицах. Местами это колонии доживающих свой век инвалидов, хранителей объявленных музейными ценностями святынь. По местами уже новая аскетическая жизнь наполняет старые бытовые формы, молодые послушники принимают постриг, не обещающий теперь ничего, кроме страданий и распятия для мира. По монастырь, притягательный для многих, по бытовым условиям не везде возможен. Аскетический идеал ищет для себя новых путей. В миру создаются очаги аскетической, даже общинной жизни, в разной степени руководимой церковным авторитетом. Некоторые из уцелевших обителей являются убежищем старцев, к которым тянется вся Россия. И после закрытия Оптиной пустыни старчество не угасло. В трудные годины Церкви старцы были ее подлинными водителями, указующими неясный часто путь в обступившем мраке.
И старчество вышло из ограды монастырских стен. Некоторые священники в городских приходах — или лишенные революцией своих приходов — священники строгой жизни и богатого духовного опыта являются настоящими старцами, авторитетными для широких кругов. Но здесь старчество уже нечувствительно переходит в духовничество. Это тоже — в распространенности своей — новое явление русской жизни. Влияние духовного отца не ограничивается таинством исповеди, но иногда, направляя всю жизнь во всех ее повседневных тревогах и трудностях, превращает духовника в «руководителя совести». Из всего этого уже ясно, что аскетическая и мистическая струя весьма заметна в современных религиозных направлениях. Сказывается она и в увлечении мирян древне-аскетической литературой, «Добротолюбием». Однако это направление не является единственным, не знаю даже, преобладающим ли. Рядом с ним осуществляется и деятельно-практическое христианство разных оттенков. Иногда оно носит характер православного «евангелизма», полагая во главу угла деятельную любовь, питаемую евангельским идеалом. В современных условиях жизни, с евангельскою любовью неразрывно связывается и возрождение апостольского идеала — проповеди. Много встречаешь людей, трогательно бескорыстных, отдавших себя всецело делу спасения братьев, сеющих Слово Жизни и не пекущихся о завтрашнем дне.
И, наконец, среди христианской интеллигенции сильна потребность воплощения христианства в практике— не личной жизни, а общей культурной работы. Стоят вопросы — не новые, конечно, — о христианизации культуры, о возможности или невозможности этого пути, о будущем Церкви и о судьбах теократии. Здесь продолжается разработка темы, поставленной Владимиром Соловьевым и вышедшей из него русской богословской школой. Ответы даются, конечно, различные, как различны и настроения: от апокалиптического ощущения конца и парадоксального отвержения всех проблем культуры до оптимистического приятия новой — в России созданной революцией — жизни, — как почвы для строительства нового христианского общества. Если в этих кругах живы интересы к вопросам общественной и национальной жизни, то для мистически ориентированной интеллигенции характерны вопросы догматического богословия (например, догмат искупления), проблемы, связанные с имяславчеством, которое, не волнуя уже Церковь и не спускаясь в массы, приобрело себе много приверженцев в богословски авторитетных кругах. Но интересы переплетаются. И мистики неизбежно должны определять — хотя бы отрицательно — свое отношение к культуре, и среди общественников велико тяготение к догматическим и аскетическим проблемам.
От жестокого гнета христианская мысль страдает больше, чем христианская жизнь. Слово сковано, и связь между людьми ограничена. Знаешь, что кто-то работает, кто-то пишет без надежды увидеть напечатанным свой труд. Отсюда огромное значение устного слова. Церковная кафедра, тоже не свободная, не может удовлетворить этой потребности, хотя она дает немало замечательных проповедников. Среди них заметны те же течения, что и во всей церковной жизни, — разумеется, вопросы морали и апологетики преобладают. То, чего не дает общественное слово, заменяет личное общение, достигшее в современной России необычайной напряженности. Общение в слове связывается часто с молитвенным общением, отсутствие научной организации мысли восполняется ее высокой религиозной действительностью. В такой атмосфере идейные расхождения и споры, иногда очень горячие, редко приводят к разрывам, не препятствуют братскому общению людей различных взглядов. Жизнь в Церкви гонимой, перед лицом врагов Христа и раскола, в постоянном общении в культе и таинстве единит людей различного духа и направлений.
Не знаю, сумел ли я уловить основное и главное в необычайной сложности нашей жизни и, особенно, сумел ли я показать ее единство, торжествующее сквозь противоречия. Неизбежно противоречивым должно представляться всякое мощное творчество, всякий бурный рост, еще не принявшие твердых, законченных форм. В свободе и огне испытаний творятся эти формы, творятся — верим — Духом Святым, наполняющим, явно для всех, мученическую Русскую Церковь.
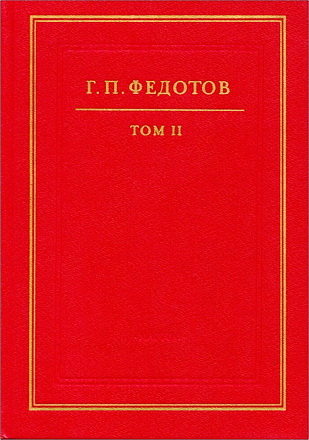

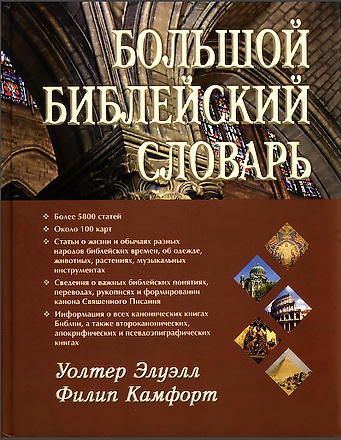


Комментарии
Пока нет комментариев. Будьте первым!